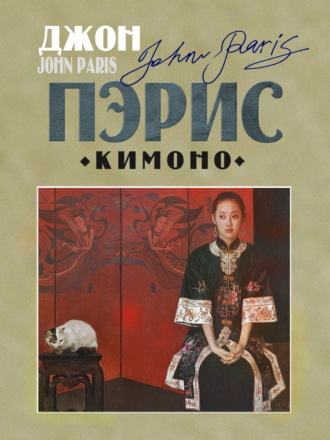
Полная версия
Кимоно
– Милый Джеффри, я так люблю вас, – прошептала она. Ее темные глаза были полны слез.
Пароход шел узким каналом, похожим на фьорд: с обеих сторон были лесистые холмы. Леса зеленели весенней листвой. Никогда Джеффри не видел такого разнообразия и густоты растительности. Каждое дерево, казалось, отличалось от своего соседа, и склоны холмов были покрыты теснящимися толпами деревьев. Здесь и там потоки горных цветущих вишен, пробивались среди зелени, подобные грудам снега.
У подошвы лесов, у обреза тихих вод гнездились селения. Были видны только крыши, высокие, коричневые, соломенные крыши с линиями ирисов, растущих на их гребнях. Эти туземные домики казались робкими животными, скрывающимися в тени покровителей-деревьев. Казалось, когда-нибудь нахальный гудок парохода может заставить их спрятаться опять в лесные чащи. Не было признаков жизни в этих затопленных лесом селениях, где спор между топором дровосека и первобытной растительностью еще не казался решенным. Жизнь там была, но скрытая под роскошным покровом растений, скрытая от взоров случайного прохожего, как жизнь насекомых. Только со стороны моря, там, где дома теснились под стеной из циклопических камней, и в гавани, где длинные, узкие лодки с острыми носами, пиратского образца, были вытащены на берег, те же маленькие, похожие на гномов люди, откровенно показывая темное нагое тело, пилили, стучали молотками и чинили сети.
Пароход скользил теперь по фьорду, направляясь к облаку черного дыма впереди. Прошли мимо не узнанного Джеффри серого католического собора в итальянском стиле, памятника старинной христианской веры в Японии, насажденной святым Франциском Ксавье четыре сотни лет тому назад. Якорь бросили у острова Дешима, теперь соединенного с берегом; там, в века недоступности Японии для иностранцев, позволено было пребывать голландским купцам в полном, но выгодном для них рабстве. Дешима вырос теперь в целый японский город, значительность которого поддерживается его гаванью; в ней шум и дым доков Мицубиси предупреждает романтически настроенных путешественников о современной индустриальной жизни новой Японии. Днем и ночью разгораются огни в печах, и десять тысяч работников заняты постройкой военных и торговых судов для Британии.
Явились на борт карантинные чиновники, маленькие, темные люди в мундирах, нелепо важные. Затем пароход был осажен роем длинных примитивных лодок, называемых сампанами и описанных Лоти как варварская разновидность гондолы; все они толкали одна другую, привозя на борт торговцев местными товарами, шелком, черепаховыми изделиями, глиняной посудой, иллюстрированными открытками и доставляя путешественников на берег.
Джеффри и Асако были на берегу одними из первых. Момент прибытия на японскую землю принес неприятное разочарование. Набережная Нагасаки оказалась совершенно похожей на улицу в каком-нибудь захиревшем европейском городке. Глазам представлялся ряд казенных зданий и консульств, выстроенных на западный лад, совсем одинаковых и лишенных изящества. Таможенные чиновники и полицейские подозрительно косились на иностранцев. Несколько женщин, нагруженных детьми и рыночными корзинами, тупо уставились на них.
– О, они носят кимоно! – воскликнула Асако, – но какие грязные и пыльные. Можно подумать, что они спали в них!
Японские женщины действительно придерживались национальной одежды. Но Баррингтонам, высадившимся в Нагасаки, они показались уродливыми, бесформенными и грязными. Их волосы были пыльны и растрепанны. Лица – тупы и неподвижны. Фигуры скрыты в ворохе грязных одежд. Джеффри слышал, что они моются по крайней мере раз в день, но теперь был склонен сомневаться в этом. Или это оттого, что они все моются в одной ванне и их омовения – простой взаимный обмен грязью? Но где же те девушки-мотыльки, что танцуют с веерами среди чашей и блюд?
Рикши, детские тележки для одного человека, показались интересными и забавными; и костюм везущих их людей, и их мускулистые, неутомимые ноги. В своих узких штанишках из грубой темно-синей материи, коротких куртках, похожих на те жакетки, что употребляются в Итоне для спортивных матчей, в широких, круглых, как грибы, шляпах, они казались фигурами из толпы, изображаемой на фламандских «Распятиях Христа».
Позади сампана Баррингтонов вдоль верфи плыл широкий лихтер. Он был черен от угольной пыли, и в углу его была навалена куча плоских корзин, употребляемых на угольных судах в японских портах; их передают из рук в руки в непрерывной цепи на борт судна и опять вниз на угольную баржу. Работа была окончена. Лихтер был пуст и вез обратно в Нагасаки толпу перепачканных углем кули. Они были одеты, как рикши: узкие панталоны, короткие куртки и соломенные сандалии. Они сидели, утомленные, по бокам баржи, вытирая пот с грязных лиц грязными тряпками. Их волосы были длинные, прямые и спутанные. Руки грубые, потерявшие форму от тяжелого труда.
– Бедные люди, – воскликнула Асако, – трудная у них работа.
Толпа прошла мимо, указывая на англичан и разговаривая высокими голосами. Джеффри никогда не видел раньше таких странных парней, с длинными волосами, выбритыми лицами, толстыми бедрами. Один из них, самый растрепанный из всех, остановился возле них с распахнутой рубахой. Показалась женская грудь – черная, сухая, грубая, будто кожаная.
– Это женщины! – воскликнул он. – Что за странная вещь!
Но зато дети Нагасаки, они-то уж не принесли никакого разочарования. Смеющиеся, счастливые, разноцветные и вездесущие. Они катались под колесами рикш. Они выглядывали из-за товаров, нагроможденных кучами на полу лавок; вечная угроза для лавочников, особенно с китайскими товарами, где их птичьи движения более опасны для вещей, чем присутствие неуклюжего быка. Они катались вверх и вниз по храмовым ступеням, как опавшие лепестки. Они слетались, как маленькие птички вокруг уличных разносчиков, которые носят на широких плечах весь свой торговый склад сластей, сиропов, игрушек или поющей саранчи. Они – будто куклы нашего собственного детства, одаренные неугомонной жизнью. В одеждах их маленьких тел проявляется любовь к ярким краскам восточных народов, чей прихотливый вкус связан традиционным преобладанием темного – коричневого и серого. Удивительно пестрые кимоно они шьют для своих детей, с изображением цветов, бабочек, игрушек, сцен, волшебных сказок, отпечатанных на фланели – или на шелке для маленьких плутократов, – всеми красками, причем преобладают красные, оранжевые, желтые, пунцовые, голубые и зеленые тона.
Они врывались в чопорную атмосферу отеля в европейском стиле, где Джеффри и Асако пытались насладиться безвкусным завтраком, – их огрубевшие босые ножки топтались на изношенном линолеуме. Ему нравилось наблюдать их игру с постоянным показыванием пальцев, со спокойным или порывистым убеганием. Он даже сделал попытку добиться популярности, бросая им медные деньги. Его щедрость не вызвала никакой давки. Серьезно и по очереди каждый ребенок прятал в карман свое пенни; но все они одаривали Джеффри враждебными и подозрительными взглядами. Он тоже, при близком рассмотрении, нашел их менее похожими на ангелов, чем при первом взгляде. Ему не понравилась ужасная влажность невытертых носов, а также значительное количество шелудивых голов.
После неаппетитного завтрака в серо-желтом отеле Джеффри и его жена снова принялись за свои исследования и открытия. Нагасаки – заколдованный город; если пассивно двигаться по его узким улицам, как течет вода в ручье, по их змеиным изгибам, то скоро очутишься в самой его глубине.
Они оставили позади иностранный квартал с его неописуемой уродливостью и погрузились в лабиринт маленьких туземных переулков, запутанных и прихотливых, как тропинки, с внезапно открывающимися крутыми холмами и ступенями, которые мешают движению рикш.
Здесь дома богачей были тщательно ограждены, строго недоступны; но домашняя жизнь бедняков и лавочников выливалась на улицу из тех ящиков, которые они называют домами.
С помощью еще одного человека, подталкивающего сзади, рикши зигзагами привезли их на холм, к деревянным воротам, полуоткрытым в плотной бамбуковой ограде.
– Чайный дом! – заявил рикша, останавливаясь и скаля зубы. Он явно ждал, что иностранцы остановятся и войдут.
– Войдем и посмотрим, милая? – предложил Джеффри. Они прошли под низкими воротами, по усыпанной мелким щебнем дорожке, через уютный хорошенький сад ко входу в чайный дом; легкая постройка из коричневых досок, очень чистая и не знающая прикосновения грязных ботинок. На ступенях – целая коллекция гэта – местных деревянных галош – и отвратительных модных ботинок говорила, что как раз принимали гостей.
Внутри темных коридоров дома слышался непрерывный легкий шум, как воркование голубей. Четыре или пять маленьких японок простирались на полу перед посетителями, бормоча шопотом: «Ирасшаи!» («Удостойте войти!»).
Баррингтоны сняли обувь и последовали за одной из этих женщин по светлому коридору с другим миниатюрным огороженным садиком, с одной стороны, и бумажными шодзи и выглядывающими из-за них лицами – с другой, через еще один сад, род восточного моста вздохов, к маленькому отдельному павильону, как бы купавшемуся в море зеленых кустов и чистого воздуха и связанному деревянным проходом с главной массой строения.
Этот летний домик заключал в себе единственную небольшую комнату, наподобие очень светлого ящика с деревянными рамами, стенами из непроницаемой бумаги, бледно-золотистыми циновками на полу. Только одна стена казалась капитальной и представляла род алькова. В этой нише был помещен продолговатый рисунок, изображающий цветущую вишню на склоне горы, а под ним на подставке из темного сандалового дерева сидела бронзовая обезьяна с хрустальным шариком в руках. Вот единственное украшение комнаты.
Джеффри и его жена сели или прилегли на четырехугольных шелковых подушках, называемых «забутан». Затем шодзи были отодвинуты, и открылся вид на Нагасаки.
Это было восхитительное зрелище. Чайный дом нависал над городом. Легкий павильон казался пульмановским аэропланом, парящим над гаванью. Был тот час вечера, когда волшебное очарование Японии особенно сильно. Все неизящное и грязное было скрыто бамбуковыми заборами и окутано туманом сумерек. Это полчаса серого сияния. Серо было небо, и воды гавани, и крыши домов. Серый туман поднимался над городом, и черно-серые полосы дыма шли от доков и пароходов к порту. Деятельный шум города доносился ясно и отчетливо, но бесконечно далекий, как доносятся к небесным богам звуки земли. Волшебный час, когда ожидаешь чуда.
Две маленькие женщины принесли чай и сладкое печенье; зеленый чай, похожий на горьковатую горячую воду, безвкусный и не утоляющий жажды. Поразили их лица: покрытые слоем пудры, они были старые и сморщенные.
Они заметили национальность Асако и заговорили с ней по-японски.
– «Вежливость у них не особенная, – подумал Джеффри, – достаточно любопытства, назойливости и распущенности».
Но Асако знала всего несколько фраз на родном языке. Это привело девушек в затруднение, и после совещания шепотом и хихикания в рукава одна из них побежала искать подругу, которая могла бы рассеять тайну.
– Несан, несан [Старшая сестра (яп.)], – звала она через сад.
Странная маленькая посуда была подана на лакированных красных подносах, рыба и овощи живописно расположены, но чрезвычайно невкусные.
Появилась третья «несан». Она говорила немного по-английски.
– Оку-сан [Госпожа (яп.)] – японка? – начала она после того, как поставила перед Джеффри маленький квадратный столик и проделала обряд преклонения.
Джеффри отвечал утвердительно. Снова преклонения, уже перед «оку-сан» и приветствия шепотом на японском языке.
– Но я не говорю по-японски, – сказала Асако, смеясь.
Это смутило девушку, но любопытство подталкивало ее.
– Данна-сан – ингирис [Англичанин]? – спросила она, смотря на Джеффри.
– Да, – сказала Асако.
– Что, у многих англичан японские жены?
– Очень у многих, – был неожиданный ответ.
– О Фудзи-Сан, – продолжала она, указывая на другую девушку, – иметь ингирис – данна-сан – много лет назад: очень хороший данна-сан: дать О Фудзи масса красивых кимоно: он сказать О Фудзи – очень хорошая девушка, идти в ингирис с ним; О Фудзи сказать нет, не могу идти, мать очень больна, так, данна-сан уезжать. Дать О Фудзи-сан очень красивое кольцо.
Она заговорила на туземном языке. Другая девушка с деланным смущением показала колечко с поддельными сапфирами.
– О! – воскликнула Асако, смутно понимая.
– Все ингирис данна-сан приходить Нагасаки, – продолжала болтливая девушка, – нуждаться японские девушки. Ингирис данна-сан хороший человек, но очень много пить. Японский данна-сан нехороший, недобрый. Ингирис данна-сан много денег, много. Нагасаки девушка очень много чужой данна-сан. Жены иностранцев из Нагасаки знамениты. Ингирис данна-сан уходить постоянно. Один год, два года – тогда уходить в Ингирис страну.
– Что же тогда с японками? – спросила Асако.
– Другие данна-сан приходить, – был лаконичный ответ. – Ингирис данна-сан жить в Японии, японская девушка очень красива. Ингирис данна-сан уезжать, не надо японская девушка. Японская девушка идти другая страна, она чувствует очень больна; сердце очень одиноко, очень печально!
В маленькую комнату пробралось смутное неприятное чувство – непривычные мысли, понятия чуждой морали, зловещие птицы.
Две другие девушки, не умевшие говорить по-английски, явно позировали перед Джеффри; одна из них, прислонившись к раме открытого окна, вытянула вперед длинные рукава своего кимоно, как крылья; ее раскрашенное овальное лицо смотрело на него, несмотря на то, что глаза казались опущенными; другая присела на пятках в углу комнаты с тем же выражением жеманства и с руками, скрещенными на груди. Несмотря на спокойствие поз, они также призывали на свой манер, как и покачивающие бедрами девицы Пиккадилли. Это истинно сегодня, как и двести пятьдесят лет тому назад, в дни Кэмпфера, старого голландского путешественника, что в Японии всякий отель – публичный дом и всякий чайный домик – дом свиданий.
Из ближайшего крыла здания донеслись звуки струн, похожие на игру на банджо в странном ритме. Несколько резких нот, казалось, были взяты наудачу, сопровождались несколькими отрывками песни, полной трелей, все разрешилось хохотом клоуна. Молодежь Нагасаки пригласила гейшу, чтобы развлекать их за обедом.
– Японская гейша, – сказала девушка из чайного домика, – может быть, данна-сан хочет видеть танец гейши?
– Нет, благодарю, – сказал Джеффри поспешно. – Асако, милая, пора домой, нам время обедать.
Глава V
Чонкина
Сидеть молчаливо,Спокойно смотря,Не значит сравнятьсяС пьющими саке,Буйно кричащими.Сейчас же после обеда Асако ушла спать. Она была утомлена массой виденного и новых впечатлений. Джеффри сказал, что он немного погуляет и покурит, возвращаясь. Он направился по улице, которая ведет к пору Нагасаки.
«Чонкина, Чонкина, Чон, Чон, Кина, КинаЙокогама, Нагасаки, Хако-дате-Гой!»Припев старой песни пробудил в его памяти мелодичное название места.
Он спустился с холма, на котором стоял отель, и перешел по мосту узкую речку. Город был полон прелести. Теплый свет в маленьких деревянных домиках, кремовый оттенок бумажных стен их, освещенных изнутри, с черными силуэтами обитателей, просвечивающими сквозь них, покачивающиеся на лодках в гавани фонари, огни на больших судах, расположенные правильно, как линии в чертежах Евклида, фонари на экипажах и рикшах, фонари, похожие на фрукты: красные, золотые, сверкающие и круглые, висящие над входом в каждый дом, с китайской надписью на них, сообщающей имя жильца.
«Чонкина, Чонкина!»
Как бы в ответ на свое пение Джеффри внезапно встретил Вигрэма. Вигрэм был пассажиром на пароходе вместе с ними. Он старый итонец, и, правду сказать, это было единственным сходством между двумя мужчинами. Вигрэм был низкого роста, толст, вял, имел глупые глаза и помятое лицо. Он растягивал слова, имел литературные претензии и путешествовал для развлечения.
– Эй, Баррингтон, – сказал он, – вы совсем один?
– Да, – отвечал Джеффри, – моя жена сильно утомилась, ушла спать.
– Так вы, пользуясь благоприятным случаем, изучаете ночную жизнь, а, повеса?
– Немножко в этом роде, – сказал Джеффри, который считал, что быть благонравным мальчиком – дурной тон, и не хотел прослыть таким даже перед Вигрэмом, хотя его мнение и не ставил ни во что.
– Не следует ходить по улицам; а впрочем, все равно. Здесь в клубе мне сказали, что Нагасаки – одно из самых жарких мест на земном шаре.
– Довольно сонное место, – отвечал Джеффри.
– О, здесь! Здесь английские товарные склады и консульства. Здесь всегда мертво. А вот пойдемте со мной смотреть танец Чонкина.
Джеффри был поражен таким эхом собственных его мыслей, но сказал:
– Я должен вернуться: жена будет беспокоиться.
– Нет еще, не сейчас. Все это окончится в полчаса, и это стоит посмотреть. Я как раз иду в клуб за приятелем, который обещал повести меня.
Джеффри позволил убедить себя. В конце концов, дома его не ожидают сию минуту. Уже много лет он не посещал мест с дурной репутацией. Это дурной тон, и они не влекли его. Но странность и новизна привлекательны, и ему хотелось на минутку заглянуть за кулисы этой новой и неизвестной страны.
Чонкина, Чонкина!
Почему бы ему не пойти?
Он был представлен Вигрэмом его приятелю мистеру Паттерсону, шотландскому коммерсанту в Нагасаки, имевшему обычай в субботние вечера выходить из клуба в состоянии некоторого опьянения.
Они позвали трех рикш, которые, казалось, знали без всяких приказаний, куда их везти.
– Это далеко отсюда? – спросил Джеффри.
– Не очень, – сказал шотландец, – очень удобно расположено.
Они ехали по узким, запутанным улицам с той же фантастической игрой света и теней, освещенными бумажными стенами и яркими шарами ламп на воротах.
Издали донесся звук барабанного боя. Джеффри слышал раньше звуки барабана, похожие на эти, в сомалийском селении близ Адена, дикие, примитивные звуки с подобием маршевого ритма, побуждавшие двигаться сотни черных тел на каком-то диком празднестве.
Но здесь, в Японии, такая музыка звучала призывом оторваться от цивилизации, как старой, так и новой.
«Чонкина, Чонкина!» – казалось, выбивал барабан.
Рикши свернули на улицу пошире, с домами более высокими и богатыми, чем были до сих пор. Они были выстроены из темного леса, как большие швейцарские шале, и увешаны красными бумажными фонарями, похожими на огромные спелые вишни.
Снова вход, похожий на театральные подмостки, но более заполненный женщинами с их нижайшими преклонениями, шествие по освещенным коридорам и крутым лестницам, похожим на пароходные трапы, и всюду тяжелый запах дешевых духов и пудры – запах публичного дома.
Трое гостей поместились сидя или полулежа вокруг низкого столика с пивом и печеньем. В коридоре слышался целый хор писклявых и хихикающих голосов. Затем распределение ролей, видимо, совершилось, и шесть маленьких женщин вбежали в комнату.
– Патасан-сан! Патасан-сан, – кричали они, хлопая в ладоши.
Это, наконец, были женщины-мотыльки из видений путешественников. На них яркие кимоно, красные и голубые, вышитые золотом. Лица их бледны, как фарфор, и кажутся эмалированными от употребляемой ими жидкой пудры. Их волосы, черные и блестящие, как солодковый корень, собраны в фантастические завитки, украшены серебряными колокольчиками и бумажными цветами. Очарование, впрочем, разрушало облако тяжелого запаха, окружавшее их.
– Добрый день вам, – пищали они на комическом английском языке. – Как поживаете? Я люблю вас. Пожалуйста, целуйте меня. Дам! Дам!
Паттерсон представил их: О Хана-сан (мисс Цветок), О Юки-сан (мисс Снег), О Эн-сан (мисс Близость), О Тоши-сан (мисс Год), О Таки-сан (мисс Высота) и О Кома-сан (мисс Пони).
Одна из них, мисс Пони, обвила руками шею Джеффри маленькие пальцы давали ощущение прикосновения насекомых – и сказала:
– Милый, любите вы меня?
Огромный англичанин освободился осторожно. Ведь это дурной тон – грубо обходиться с женщиной, хотя бы и японской куртизанкой. Но он начинал жалеть, что пришел сюда.
– Я привел двух дорогих друзей, – ораторствовал Паттерсон, – скорее для наслаждений художественных, а не плотских; хотя, конечно, смело могу предсказать, что удовольствие чувственное будет венцом истинного искусства. Мы пришли смотреть национальный танец Японии, вихрь Нагасаки, знаменитый Чонкина. Я-то сам привык к нему. Два или три раза я и сам исполнял его в этих залах. Но вот два джентльмена специально приехали из Англии только для того, чтобы видеть, как его танцуют. Поэтому прошу плясать сегодня ночью заботливо и внимательно, давая волю воображению, с чувством предвкушения наслаждения и полным уважением к голой истине.
Он говорил с истинным красноречием и упоением, и когда шлепнулся в конце концов на пол, Вигрэм хлопнул его по плечу с одобрением: браво, старина!
Джеффри молчал и чувствовал себя очень неловко. «Чонкина, Чонкина!» Маленькие женщины принимали скромный вид, закрывая лица длинными рукавами кимоно. Служанка раздвинула стены-ширмы, отделявшие соседнюю комнату, точную копию той, в которой они сидели. Пожилая женщина в зеленоватом кимоно сидела там молча, с видом строгим и достойным.
На минуту Джеффри подумал, что произошла ошибка, что это тоже гостья, потревоженная во время спокойного размышления и оттого негодующая.
Но нет, эта римская матрона держала на коленях белый диск «самисена», род местного банджо, по которому она ударяла широкой белой костяшкой. Она, прежде гейша, была теперь оркестром.
Шесть маленьких мотыльков построились перед ней и начали танец, не западный, со свободными движениями членов, а восточный, танец бедер с перемещениями рук и ног. Они пели резкую, прерывистую песню без всякого сколько-нибудь заметного соответствия аккомпанементу, наигрываемому серьезной дамой.
«Чонкина, Чонкина!» Шесть фигурок склонялись вперед и назад. «Чонкина, Чонкина! Гой!» Резким криком внезапно оборвались песня и танец. Шесть танцовщиц застыли, простирая руки, в разнообразных позах. Одна из них сбилась с круга и должна была уплатить штраф. Она сняла широкий вышитый шарф. Он был отброшен в сторону, и хриплая песня зазвучала снова.
«Чонкина, Чонкина! Гой!» Та же девушка ошиблась опять; и с легким шуршанием великолепное красное кимоно упало на землю. Она осталась в красивом голубом нижнем кимоно из легкого шелка; все оно было бледно расшито изображениями вишневых цветов.
«Чонкина, Чонкина!» Круг за кругом та же игра, и ошибалась то одна девушка, то другая. У двух уже была обнажена верхняя половина тела. На одной оставалось что-то вроде вязаной белой нижней юбки, грубой и в пятнах, обернутой вокруг бедер; на другой – короткие фланелевые панталоны типа мужского купального костюма, окрашенные в цвета Британии, подарок какого-нибудь матроса своей возлюбленной. Обе были молоды. Их груди были плоски, лишены формы, и на желтой коже их лиловые соски казались какими-то ядовитыми ягодами. Желтая кожа у горла и шеи резко граничила с линией пудры. Шея и лицо были покрыты сплошным белым слоем. Это производило сильный эффект: казалось, тело потеряло под ножом гильотины свою настоящую голову и получило дурно сделанную замену ее из рук хирурга.
«Чонкина, Чонкина!» Паттерсон придвинулся ближе к исполнительницам. Его красное лицо и похотливая улыбка были образцом того, что он назвал предвкушением наслаждения. У Вигрэма вялое лицо стало бледнее обыкновенного, глаза выкатились, губы раскрылись и отвисли, и смотрел он, как в гипнотическом трансе. Он прошептал Джеффри:
– Я видел танец живота в Алжире, но это побьет все, что угодно.
Джеффри из-за облаков табачного дыма наблюдал эту дикую фантасмагорию как видение сна.
– Сорвите это! Сорвите это! – кричал Паттерсон. – Не бойтесь, мы знаем, что там!
«Чонкина, Чонкина!» Танец стал еще более выразительным не в смысле искусства, но животности. Тела тряслись и изгибались. Лица искажались, чтобы выразить экстаз чувственного наслаждения. Маленькие пальцы сплетались в нескромных жестах.
«Чонкина, Чонкина! Гой!» Девушка в узких панталонах ошиблась опять. Она сбросила их с выражением стыдливости, подчеркивающем бесстыдство. Потом, в уродливой наготе, встала в позу посреди группы отрицанием всех канонов эллинской красоты.
Джеффри видел до сих пор обнаженных женщин только идеализированными в мраморе или на полотне. Тайна Венеры была для него, как для многих мужчин, недоступной Меккой, возбуждавшей благоговение. Он знал только проблески, призраки мягких изгибов, слюдяной блеск кремовой кожи, но не грубый анатомический факт.
Она же казалась огромным эмбрионом, нелепо и безобразно отлитой формой.





