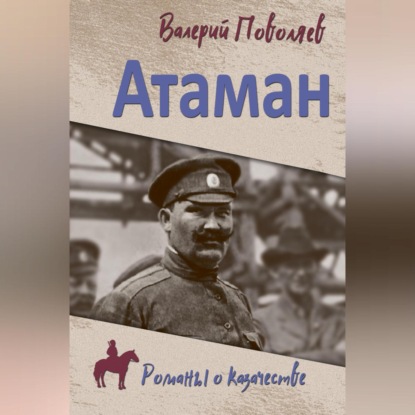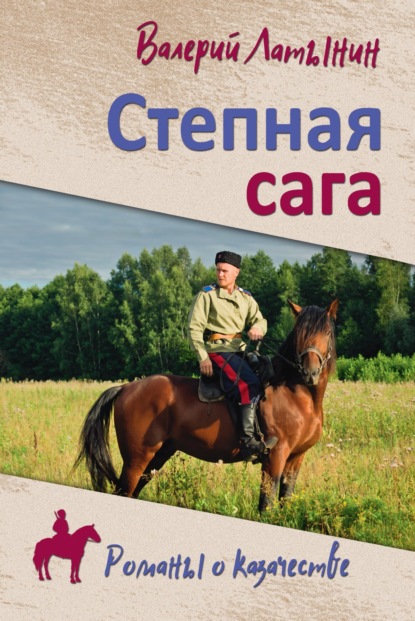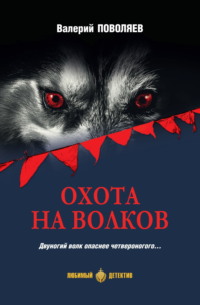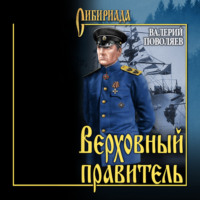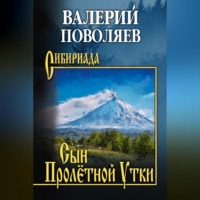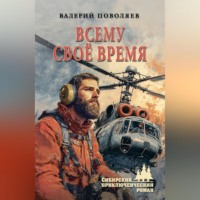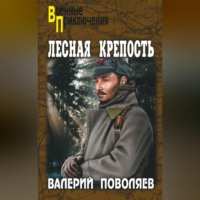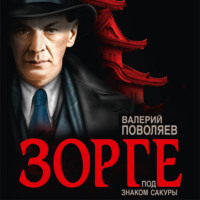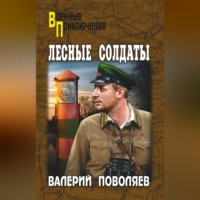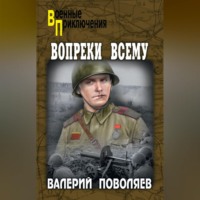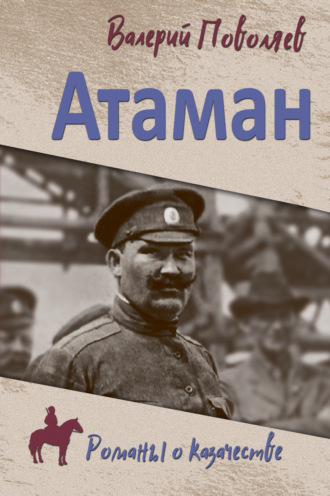
Полная версия
Атаман
Сотник не выдержал, засмеялся – настроение у него было приподнятое, он вытянул из ножен шапку и с громким лязганьем вогнал ее обратно. Казаки повторили это движение – со временем оно вообще войдет у них в привычку, в обычай, – слитое металлическое лязганье прозвучало настоящим громом, сотник снова засмеялся и широко загреб рукою воздух:
– За мной!
Из одного леска казаки переместились в другой, потом в третий, просочились сквозь прозрачную рощицу и лавой вынеслись на поле перед самой деревней.
Сотник скакал первым, пригнувшись к шее лошади и азартно покхекивая на ходу. Ему показалось, что от крайнего дома, где был вырыт окоп, сейчас по казакам хлестнет горячая пулеметная струя, рассечет пространство, и он, спасаясь от нее, пригнулся еще ниже, но в следующий миг поймал себя на этом и недовольно отплюнулся на скаку: еще не хватало скрываться за конской шеей. Ни за конскими шеями, ни за человеческими спинами он скрываться не привык.
Выхватив из ножен шашку, он заулюлюкал азартно, громко, зло. В конце улицы увидел заморенного, худого, как заяц по весне, полупарнишку-полустаричка, представителя рабочего класса Германии, кинулся за ним, тот совсем как обычный русский мужик сиганул через плетень и был таков.
– Шельма! – прорычал на ходу Семенов, крутанул над головой клинок – аж самому холодно сделалось от стального ветра, кулаком примял на темени папаху, чтобы не свалилась, прорычал вторично, то ли негодуя, то ли, наоборот, восхищаясь бесстыдно драпанувшим ландштурмистом: – Шельма!
Сбоку ударило два выстрела, оба из винтовки дуплетом – стреляли двое, один стрелок вряд ли бы успел так быстро перезарядить винтовку. Семенов махнул рукой влево, и в то же мгновение через забор легко перемахнули на лошадях два его казака.
Послышался истошный крик, уже ставший таким знакомым:
– Казакен!
Деревня Руда разбегалась. Ландштурмисты, словно тараканы, старались забраться в какую-нибудь щель, спасаясь от казаков; то там, то тут раздавались надрывные, словно вместе с нутром вывернутые наизнанку, крики:
– Казакен!
Семенов увидел прямо под собою, под брюхом коня, толстого, с выпученными глазами-маслинами ландштурмиста – турка либо грека, а может, и немца, родившегося на юге страны, – с кучерявящимися черными волосами, вылезающими из-под каски. Ландштурмист выкинул обе руки, загораживаясь от страшного казачьего клинка, Семенов хотел ткнуть его шашкой, как копьем, но передумал, остановил руку – жалко стало этого шашлычника. А тот, благодарно взвизгнув, откатился к плетню, Семенов пронесся мимо, упрекнул себя за недозволенную на войне мягкотелость, отплюнулся привычно.
Жалко было рубить стариков. Кто Германию будет восстанавливать, когда закончится война и русские победят? Не победителям же брать в руки лопаты с мастерками. Не было у Семенова никакого чутья. А с другой стороны, не это было важно, не это главное. Главное, чтобы шашка во время удара о вражескую черепушку не вылетала из руки.
Семенов снова отплюнулся.
Одного ландштурмиста он все-таки зарубил – тот, с длинным лошадиным лицом и жесткой щеткой волос на голове, ощерил зубы, ткнул в сторону сотника плоским, похожим на нож для резки хлеба штыком, Семенов даже усмехнулся – и чего это дедушка пыряет в него штыком за десять метров, от страха спятил, что ли, но в следующий миг, словно что-то предупредило сотника об опасности, он резко послал коня в сторону. Сделал это вовремя. Успел. Пуля, которую выпустил ландштурмист, чиркнула по погону, сорвала его, сотник даже ощутил жар раскаленного металла.
– Вот сука! – воскликнул Семенов изумленно, направляя коня на ландштурмиста, рубанул немца прямо по щетке волос.
Ландштурмист хотел защититься от сотника винтовкой, выставил ее перед собой, будто дубину, Семенов изловчился, направил шашку вдоль винтовочного тулова – на плечи ландштурмиста только мозги выбрызнули, бледно-розовые, с каким-то туманным помидорным налетом. Располовиненное лицо ландштурмиста залилось кровью, только в самом низу головы, почему-то скатившись на подбородок, страшно и одновременно весело скалились чистые белые зубы. Так ландштурмист со скалящимися зубами и свалился в снег.
Больше выстрелов не было.
Через двадцать минут казаки – шумные, довольные собой – съехались на небольшой площади, обложенной крупными гладкими камнями. Белов по обыкновению отнял у кого-то из ландштурмистов бутылку с местным первачом – польской свекольной самогонкой некрасивого сивушного цвета, – собрался было выдернуть из горлышка кукурузную пробку, но сотник погрозил ему кулаком:
– Нельзя!
– Ваше благородие! – взмолился Белов.
– Пить будем потом, сейчас нельзя, – произнес Семенов жестким, каким-то чужим голосом; этот непривычно чужой, звеневший металлом голос он незамедлительно засек, услышал его словно со стороны, поморщился и добавил: – Спрячь бутылку, Белов!
– Так холодно же ж, ваше благородие. Простудиться можно.
– Спрячь!
– Что будем делать дальше, ваше благородие?
– Ждать!
Хреновая это штука, особенно на войне – ждать. Ожидание и в мирное время не слаще горчицы, вытягивает из человека все соки, выматывает так, что он, бедняга двуногий, сдавать и стареть начинает в несколько раз быстрее положенного, а уж по части нервов, то они вообще за пару дней могут превратиться в гнилые нитки, и ничем их ни залечить, ни заменить: прель есть прель…
– Может, догнать кого-нибудь из ландштурмистов и пощекотать кончиком шашки? – спросил Белов, с сожалением затыкая бутылку початком и засовывая ее подальше от глаз командирских в переметную суму – слишком сумрачным и тяжелым сделался взгляд сотника, лучше не рисковать. – Все веселее будет.
– Валяй. Но времени на эти тараканьи игры даю немного – два часа. Через два часа все должны быть здесь, на этой площади, – сотник примял ногою хрусткий сухой снег, – все, до единого человека.
Он рассчитывал так: эскадрон, который ушел с обозом в Журамин, к вечеру поспешит обратно, ночевать в Журамине не останется, немцы ночевать в чужих постелях не привыкли и обязательно вернутся – на этом и строил свою стратегию сотник Григорий Семенов.
А что касается науки ждать, то ее надо осваивать, она такая же важная в военном деле, как и наука наступать.
Белов покрутил головой в поисках напарника, но никому не хотелось бить ноги ни себе, ни коню и охотиться на ландштурмистов – гоняться за этими тараканами в поле себе дороже, и Белов утих, скис и через десять минут об охоте уже не вспоминал.
Прямо на площади, на земляной обочине, проступившей сквозь снег и поблескивавшей оттаявшей мокретью, развели костер и, вогнав в размякший рыжий суземок два кола с рогульками, развели костер. Огородили перекладину, навесили ее на рогульки и украсили черным закопченым котелком – с некоторых времен эту легкую, склепанную из алюминиевого листа посудину с собой возил Никифоров – выполнял негласное общественное поручение.
Казаки – люди в большинстве своем обстоятельные, питаться всухомятку без горячего не привыкли, так что котелок, два месяца назад найденный в немецком обозе, оказался очень кстати. Никифоров при общем молчаливом согласии оприходовал его, проверил на дырявость, почистил снегом, льдом – «шоб вони фрицевой тут не осталось ни капли» – и теперь тешил горячей едой дружков своих Белова да Лукова, ну и остальных станичников – тоже.
Луковских жирных зайцев тоже приспособились готовить в этом котелке, прежний котел был уж очень здоров, хотя алюминий – металл не для жарева и тушений, он мигом притягивает к себе всякий кусок мяса, заставляет его дымиться, за таким котелком глаз да глаз нужен, иначе все очень быстро сгорит, кроме зайчатины в нем и супы варили, и диковинное блюдо, похожее на лапшу – длинные лохматые стебли, скатанные из теста, под названием макароны: то ли немецкое, то ли итальянское, то ли папуасское изобретение… У всех, кто смотрел на хозяйственную троицу – Никифорова, Лукова и Белова, – душа начинала невольно радоваться.
Расселись вокруг костра, лошадей поставили рядом, на морды им накинули мешки с трофейным овсом.
– Спасибо немакам, – всякий раз кланялся Белов, насыпая овес в торбы, – от моего коня – особенно. – Белов с шутовским видом совершал второй поклон.
– Надо бы ближайшие дома проверить, – произнес Семенов с озабоченным видом, – вдруг там кто-нибудь из немцев застрял? Не то вытащат пулемет да начнут садить по нашим головам – вот тогда мы и закукарекаем.
На неровной узкой улочке, ведущей к центральной площади деревни, показался сгорбленный человек с клюкой, небритое лицо его было сосредоточенно, он держался одной стороны улицы и почему-то опасливо поглядывал вверх, на крыши домов.
Казаки, увидев этого человека, замолчали – что-то необычное было сокрыто в нем, сколько годов было ему – не понять: могло быть и тридцать пять, и сорок семь, и семьдесят шесть – есть категория людей, которая живет вне времени, поэтому возраст их определить невозможно. Этот человек принадлежал к таким людям.
– Белов, – тихо обратился к казаку сотник, – подсоби-ка дедку.
Казак подвел непрошеного гостя к костру.
– Вот, ваше благородие, говорит, что в восемьсот семидесятом году был в России.
– Почти полвека назад, – уважительно проговорил сотник, подвинулся, освобождая место рядом с собой.
Вид у гостя действительно был вневозрастной, на висках – ни одной седой волосинки, но старческая редина и просвечивающая сквозь прозрачно-темные волосы дряблая кожа делали поправку, слезящиеся глаза с красными веками тоже не могли принадлежать молодому человеку.
– Он и по-русски гуторит вполне сносно, – сообщил Белов.
– Да, да, да, – закивал головой пришелец, – я был Россия, пришлось узнать русский.
– А чем вы занимались в России?
– Я… я… как это? Момент, – предупредил он, полез в карман, достал оттуда старые часы в медной узорчатой луковице. – Вот. Я ремонтировайт это вот. – Он нажал на кнопку, одна половинка луковицы отворилась, послышалась чистая серебристая мелодия. – Видите?
Сотник перегнулся через плечо старика, глянул на луковицу, одобрительно поцокал языком.
– Хорошие часики, однако.
– Сам собрал, – похвастался пришедший, – из отдельных деталей.
– А корпус, луковицу как – тоже сами делали?
– Корпус нет, корпус я взял от старых русских часов и подогнал под него механизм.
– Немцы, что стоят здесь, в Руде, они как… не обижают вас?
– Не-ет. Смирные люди. В основном старики.
– А кавалеристы? Отсюда высыпал целый эскадрон.
– И кавалеристы ничего. Когда спят, – пришедший засмеялся, смех у него был молодым и звонким, будто у мальчишки, – вместе с лошадьми.
Сотник протянул руки к огню, погрел их, потом задумчиво похлопал плеткой по голенищу сапога. Спросил у незваного гостя в упор: – Кто-нибудь из немцев в деревне остался? А? С одной стороны, мы вроде бы всех их выкурили, а с другой… А? Всякое ведь может быть… А?
Он не рассчитывал, что бывший часовщик ответит взаимностью – пришедший был немцем, а немец немца выдавать не станет.
Незваный гость молча подвигал из стороны в сторону нижней челюстью – соображал… Семенов понял – настаивать не надо, хотя ответ может быть всякий. В том числе и с выстрелами. Война на то и война, чтобы на ней стреляли. Выстрелы в Руде могут загрохотать в любую секунду.
– На нет и суда нет, – произнес сотник миролюбиво.
– Я очень хорошо отношусь к русским, – наконец проговорил пришелец, вздохнул, глаза его затуманились – видно, с Россией у него были связаны хорошие воспоминания.
Пауза была затяжной.
– Весьма похвально, – произнес Семенов.
Пришелец повернулся к улице спиной, приблизил лицо к сотнику, проговорил тихо и совершенно бесцветно:
– В третьем доме с краю находятся два немецких офицера.
Сотник присвистнул:
– Застряли, значит, голуби…
– В общем, вы… ваше дело военное, вы тут разбирайтесь, а я топайт дальше. – Бывший часовщик обстукал клюкой землю перед собой, словно пробовал ее на твердость, и, не прощаясь, двинулся дальше.
Некоторое время был слышен стук его клюки, а потом он стих.
Белов, сидевший на корточках у пламени, проводил пришельца взглядом и вскочил на ноги:
– Разрешите мне, ваше благородие… Я мигом растрясу эту перину.
– Погоди, Белов, – осадил его сотник. – Рано пока. Минут двадцать выждем. Иначе мы выдадим этого мастера вместе с его часами и вообще со всеми потрохами.
Через двадцать минут Белов, взяв с собою двух дружков, Лукова и Никифорова, неспешно двинулся по улице. Винтовки все трое держали на весу, патроны сидели в патронниках – в любую секунду казаки были готовы стрелять. Лица казаков имели одинаковое отсутствующее выражение, лишь в глазах поблескивало любопытство. С одной стороны, им интересно было увидеть, как живут люди в чужой стороне, с другой – по телу полз холодок, предупреждающий об опасности, все-таки они находились на войне.
– Богато живут, – завистливо произнес Луков, – нам бы так.
– Придет время – и мы заживем так же, – убежденно заверил приятеля Белов, – в России ведь как – то понос, то золотуха, то война с Японией, то плохая погода, то барин вдруг оказался круглым дураком. Для того чтобы было хорошо, надо, чтобы все это совместилось. Когда совместится – все будет великолепно.
– Такого не будет никогда.
– Не скажи, друг сердечный, построим дороги – станем жить, как кум королю. – Белов засмеялся.
Луков не выдержал, выругался беззлобно:
– Болтун!
Дом, где находились немецкие офицеры, казаки взяли в клещи – выйти из него незамеченным было невозможно, главный вход выводил на широкую, застекленную до самой крыши веранду, хозяйственная дверь, в русских подворьях считающаяся черной, была не в задней стене, как положено, а в боковой части дома, хорошо видимой с улицы, от этой двери к сараю, увенчанному высокой двухскатной крышей, будто боярской шапкой, вела темная, хорошо натоптанная дорожка – там находился сортир. Было слышно, как в сарае нервно квохчут куры.
Окна дома, завешенные легкими шторками, были темны и безжизненны. Ни одна из шторок не шелохнулась, когда казаки подошли к дому.
Белов дал команду остановиться, едва приметно примял рукой воздух – стойте, мол, здесь, – а сам, пригнувшись, беззвучно влетел на крыльцо и вошел в дом.
Было тихо. На высоком, веретеном вытянувшемся к небу тополе шебуршали мелкие розовогрудые птахи, очень похожие на наших снегирей, да о чем-то негромко и важно переговаривались несколько ворон.
Прошло минуты три… пять минут – ничего, кроме птичьего шебуршанья да миролюбивого бормотка ворон, не было слышно. Никифоров недоуменно переглянулся с напарником – уж не пришибли там их приятеля?
Прошла еще пара минут. Воздух словно загустел, стал холодным, появилось в нем что-то звенящее, тревожное, будто где-то рядом натянулась гитарная струна и ветер, прилетающий с недалекого поля, играл на ней свою печальную песню. Луков вздохнул, переступил с ноги на ногу и решительно взял винтовку наперевес:
– Что-то случилось. Надо выручать братку.
Никифоров ухватил его за рукав, мотнул головой, останавливая.
– Ты чего? Убьют немцы Белова…
Луков не ответил. Никифоров продолжал держать приятеля за рукав.
Прошло десять минут.
Дверь с треском растворилась, на веранде показался Белов, живой и невредимый, повел стволом винтовки в сторону, освобождая проход:
– Пожалуйте, ваши благородия!
На веранду вышли два офицера – одетые по-зимнему, в шинелях с меховыми воротниками, затянутые в ремни, оба в пенсне, носатые, бледнокожие, похожие друг на друга, словно близнецы-братья.
– Чего так долго? – Луков потопал сапогами по снегу. – Мы чуть дуба не дали, тебя ожидаючи.
– Да вот, их благородия изволили затяжно собираться, все капризничали. – Белов толкнул одного из офицеров прикладом винтовки в спину, под лопатки. – Шагай, шагай, клешнястый!
Казаки повели офицеров к костру. Те шли молча, горбились, когда замечали, что из окна кто-то пытается рассмотреть, кого ведут. Под роскошные каскетки у офицеров были натянуты аккуратные, связанные из верблюжьей шерсти подшлемники с утолщенными наушниками.
– Нам бы такие! – произнес Луков, с завистью глядя на наушники.
Белов хмыкнул:
– Может, тебе еще теплый ночной горшок, подогреваемый дровами, выписать со склада? На что заришься, черная кость? Нос не дорос! Вот отрастишь себе шнобель, как у этих немаков, – тогда и получишь право на шерстяные наушники.
– Можно пристрелить их, а наушники снять.
– Тебе сотник за такие речи оторвет все, что висит ниже подбородка – ноги, руки и все остальное. Я и сам немаков, не люблю, но стрелять в пленных не позволю.
Увидев пленников, сотник Семенов поднялся и, нависнув над костром, похлопал в ладони: «Браво!», потом гостеприимно повел рукой:
– Садитесь, господа хорошие!
Пленные угрюмо смотрели на него и молчали.
– Садитесь, садитесь, в ногах правды нет.
В глазах пленных возник страх – они не понимали, о чем говорит русский офицер. Семенов, усмехнувшись, пояснил:
– Это пословица такая… Садитесь, садитесь. Зитцен зи битте!
Услышав несколько знакомых слов, пленные приободрились. Один из них неожиданно вскинул голову, разом становясь похожим на жирафа, и проклекотал:
– Я буду жаловаться!
Семенову сделалось весело, он рассмеялся, показывая мелкие чистые зубы:
– Кому жаловаться? Кайзеру Вилли? До Вильки это дело не дойдет. Нашему государю императору? Тоже бесполезно. Так что пишите бумажку, мы ею подотрем задницу самому прожорливому коню. Так что садитесь, господа, пока приглашают.
Пленные офицеры замялись – земля около костра была влажной, замусоренной – Семенов это понял, приказал:
– Никифоров, найди для господ германцев пару чурбаков, не то они задами к земле примерзнут. Они, оказывается, не только белоручки, не только белоножки, но и беложопки.
Никифоров приволок пару толстых круглых обрезков, вначале один, потом другой; офицеры, чопорно поджав губы, уселись на них.
– Эх, знал бы я немецкий «шпрехен», мы бы сейчас здорово поговорили, – сказал Семенов. – А так остается только «цирлих-манирлих» разводить руками по воздуху в разные стороны. Тьфу, неучи мы!
– Не расстраивайтесь, ваше благородие, – успокоил Белов, – еще не вечер… И немецкий успеете выучить, и английский.
– Успеть-то успею, только зачем? Дед у меня без всякой грамоты сумел столько Георгиевских крестов заработать, что их вешать некуда было – на рубахе места свободного не оставалось.
Дед сотника был известным среди забайкальцев рубакой – ловкий наездник, меткий стрелок, шашкой владел, как фокусник, никто не мог сравниться с ним в этом деле. Однажды он ускакал в монгольскую степь и исчез, соратники по караулу уже похоронили его, когда он объявился в селении. Объявился не один – следом, ловко сидя на гнедом породистом коне, ехала тоненькая, с розовиной на смуглом красивом лице и глазами, похожими на драгоценные камни, юная монголка.
– Познакомьтесь, – сказал он и поклонился односельчанам, монголка тоже поклонилась. – Это – моя жена. Среди монголов известна тем, что она – единственная женщина, которой в дацане[19] дают «Джаммпаду» – книгу истин.
Монголка снова поклонилась казакам.
Позднее казаки Дурулгеевской станицы с удивлением узнали, что она принадлежит к царскому роду, прямым предком ее является сам Чингисхан. Дед, которого и без того уважали в забайкальских степях, стал уважаем еще больше – надо же, монгольскую царицку охомутал.
Семенов выделил немецким офицерам двух конвоиров и одну верховую лошадь – офицеры сели на нее друг за дружкой, недоуменно закрутили головами, словно соображая, как они выглядят со стороны, смешно или не смешно, – и отправил в тыл, в штаб бригады. Конвоирам наказал:
– Двигаться старайтесь рощицами, низинами, в окрестностях Журамина будьте осторожнее. К ночи я жду вас обратно. У меня каждый клинок на счету. Понятно, служивые?
– Так точно! – бодро гаркнули те.
Вернулись они, как принято говорить, «в самый аккурат», когда немецкий эскадрон вместе с пустыми подводами выступил из Журамина в Руду.
Семенов довольно потер руки – этого момента он ждал весь нынешний день. Оглядел станичников.
– Ну что, однополчане, покажем немакам, как раки на горе умеют свистеть?
– Как будем действовать, ваше благородие? – не замедлил задать вопрос Белов.
Вот шустряк. Всегда норовит быть шустрее паровоза – бежит перед ним по чугунной колее, попукивает, хриплым гудком пространство оглашает. Тьфу!
– Внезапно, – ответил сотник. – По моей команде. А пока – рассредоточиться по дворам. Чтобы не видно нас было и не слышно.
Немцы возвращались в Руду расслабленные – операция удалась, два батальона несчастных ландштурмистов, воющих от голода в Журамине, накормлены и напоены, казаков не видно – похоже, они ушли, – повод быть собой довольными у немцев был.
Всадники потирали руки – наконец-то они доберутся до тепла, напьются горячего чая с грогом, поедят свиных сарделек с тушеной капустой – повар, наверное, уже все жданки прождал, выглядывая из-за трубы полевой кухни, ждет их, не дождется… Едва немцы вошли в село, как из-за заборов раздался громкий лешачий гогот, следом – резкий свист, от которого у немецких кавалеристов побежали по коже мурашики.
– Казакен! – не выдержал кто-то из них, закричал громко, разворачивая коня.
Эскадрон, державший строй, смешался в несколько мгновений и превратился в обычную кучу малу, всадники сбились, некоторые из них, перемахнув через забор, поскакали в чистое поле, кто-то вытянул саблю из ножен, собираясь рубиться, но в ближнем бою, клинок на клинок, немцы уступали казакам, были слабы. Слишком внезапным оказался для немцев леденящий душу гогот, возникший словно из-под земли, из чертенячьей глубины, а следом из этой глуби выскочили и сами казаки – яростные, жестокие, лохматые, с пропеченными до темноты восточными лицами. От свиста и улюлюканья казаков с деревьев даже снег посыпался.
Несколько немцев сдались сидя прямо в седлах, подняв руки, – казаки посдирали с них перевязи с саблями, ремни с револьверами, карабины, – остальные ринулись в поле, назад к Журамину, под прикрытие винтовок ландштурма – только белая холодная пыль взвилась высоким столбом. Что-что, а по части драпанья немцы имели опыт и кони их держали хороший ход. Забайкальцам на своих низкорослых лошаденках догнать их было трудно.
Немецкий эскадрон был полновесный, пятьдесят сабель, у Семенова же было всего двадцать клинков. Взял сотник не числом, а умением.
Прискакавшие в Журамин конники внесли смятение в ряды ландштурма – накормленные до отвала и напоенные до ноздрей старички подняли ор – надо немедленно идти на соединение со своими, в Журамине они погибнут все, до единого человека.
Ландштурм начал поспешное отступление из Журамина. А Семенову это только и надо было – в Журамине ландштурмисты хоть плетнями были защищены да заборами, а в чистом поле оказались бы голенькими, как на ладони. Казаки Семенова ударили по ним залпом из винтовок, потом дали еще залп. Старички вылетали из фур, будто голуби, только ноги в укороченных теплых сапогах взметывались вверх да поле оглашалось жалобными стонами.
Добыча, которую взял сотник Семенов, была богатая: «около ста пленных и обоз в двадцать телег».
«За это дело я был произведен в следующий чин, за отличие», – написал он четверть века спустя в биографической книге «О себе».
Спокойная жизнь длилась недолго.
Начались затяжные бои, а с ними – полоса неудач. Приказом генерала Крымова два казачьих полка – Первый Нерчинский и Уссурийский – были пересажены с лошадей на «свои двои», попросту говоря, спешены. Спешенным полкам было велено готовиться к форсированию реки Дресвятицы.
У реки этой оказались сосредоточены ни много ни мало тридцать кавалерийских дивизий, и две дивизии пехотные; кулак сколотился такой, что если он ударит по немцам как следует, по-русски, то разом прорубит дыру сквозь всю Европу, прямо до самого Берлина; во главе кулака был поставлен генерал Орановский – человек, как впоследствии оказалось, вялый и пустой. Максимум, что он умел делать – сохранять сапоги зеркально начищенными в самую лютую грязь да трубно сморкаться в надушенный батистовый платок.
По коню своему, уведенному в тылы дивизии, Семенов скучал здорово – словно по близкому другу, пришедшему с ним в эти края с родного кордона, – в нем рождалось ощущение потери, чего-то печального, даже скорбного, как будто не стало человека, которому он доверял. Вроде бы только что вместе шли в атаку, вдруг пуля – вживк! – и Семенов остался один.
Река Дресвятица была коварной. Узкая, глубокая, с ямами, из которых на отмели выползали полуторапудовые сомы, норовили тяпнуть за ногу какого-нибудь зазевавшегося солдатика, она имела очень топкие, сочащиеся черной сукровицей берега. Лишний раз на такой берег не ступишь – увязнешь по пояс.