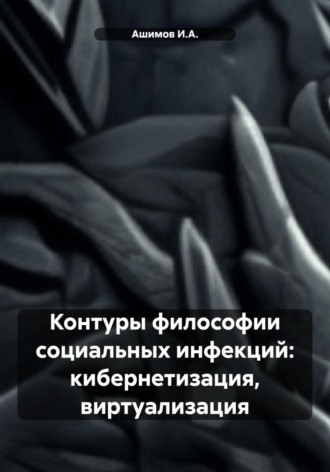
Полная версия
Контуры философии социальных инфекций: кибернетизация, виртуализация

Ашимов И.А.
Контуры философии социальных инфекций: кибернетизация, виртуализация
Обоснование необходимости издания
трилогии «Философия социальных инфекций»
Как известно, история всегда демонстрировало постоянное продвижение развития человечества в сторону улучшения. Сменяя друг друга, цивилизации оставляли свое неповторимые наследия во всех сферах деятельности, которые становились фундаментом для дальнейшего развития человечества. Сможет ли нынешний социум, в сравнении с прошлыми выступить гарантом прогрессивного развития цивилизации? Дело в том, что великое множеством социальных болезней, которыми человечество сейчас болеет, оставляет ему немного шансов для такого прогрессивного развития. Социальные болезни – это объективные, наблюдаемые и распознаваемые по внешним признакам социально доминированные явления, отражающие дисфункциональное состояние общественных элементов или всего общества в целом. В свое время К.Ясперс писал: «Нельзя постичь природу общества и сопутствующих ему недугов без рассмотрения их сквозь призму существующей в то время исторической изменчивости и обусловленности». Нужно отметить, что одним из авторов специальных исследований по установлению сходства и различия между биологическими и социальными болезнями является И.В.Рывкин (2011). Он утверждает, что социальные болезни – это не только болезни тела (туберкулез, сифилис, гонорея, алкоголизм, наркомания и пр.), но и дефекты общественных отношений (аморализм, авторитаризм, коррупция, криминализм, национализм, геноцид и пр.). «Социальные болезни российского общества – это результат дефектов управления страной», – категорично заявляет он, полагая, что социальные болезни общества и его социальные проблемы – это одно и то же. Такие явления как деполитизация, дегражданизация, ослабление нравственности, рост гражданских правонарушений, ксенофобии, национальной нетерпимости, отчуждения населения от актуальных проблем страны – вот те социальные болезни, составляющие «социальный рельеф» российского общества переходного периода», – пишет автор.
Какова же современная специфика и структура? Структура социальных болезней выглядит несколько иной, но, однозначно, по степени охвата населения более масштабны и глубоки, начиная от психологических и социально-экономических (ослабление роли семьи, школы, государства; алкоголизма и наркомании; равнодушия общества к ситуации в стране; нарастания преступности и правонарушений и пр.) до сугубо политических (неэффективность управления страной; некомпетентность власти; доминирование групповых интересов; кризис лидерства; дефицит мыслящих политиков и пр.). Автор считает, что общество должно осознать опасности и последствия социальных болезней, что нужно осмыслить суть этих болезней – диагнозы, локализации, причины, масштабы распространения, пути оздоровления, то есть аналогично практики медицинской инфекции. Произошли кардинальные изменения в мировой структуре социальных болезней, обусловленные эпохой гипертехнократического развития человечества: глобализация, экстропия, техногнозис, постмодернизм, тотальное переформатирование мира. Появились характерные для них глобальные социальные болезни, которых отличает заразительность: цифровизация, автоматизация, алгоритмизация, кибернетизация, информатизация, биочипизация, виртуализация, роботизация, киборгизация, аватаризация, эвтанизация, деперсонализация, дереализация и пр. Под влиянием этих недугов, проявляемых также как и биологические инфекции, в виде вспышки, эндемии, эпидемии, пандемии, социальные структуры и человеческое общество во всем мире подверглись переплавке и мутируют практически на каждом шагу. В этой связи, полагаем, что классификация И.В.Рывкина (2011), наряду с психологическими, политическими, экономическими социальными болезнями, должна быть дополнена технократическими социальными инфекциями: цифровизация, автоматизация, алгоритмизация, кибернетизация, информатизация, биочипизация, виртуализация, роботизация, киборгизация, аватаризация, эвтанизация, деперсонализация, дереализация. Причем, каждую из них можно трактовать как социальные инфекции с потенциалами либо эндемии, либо эпидемии, либо пандемии. Нужно понимание того, что социальная инфекция в социокультурном аспекте – это, прежде всего, моральное потрясение, социальная драма и трагедия, зло и несправедливость. Вот почему необходимо философское осмысление их как в ракурсе социальных инфекций (эндемия, эпидемия, пандемия), так и в ракурсе социального исключения человека и духовной реинтеграции человеческого сообщества.
Приступая к серии изданий под названием «Философия социальных инфекций», в предметное поле философии мы внесли вышеуказанные болезни в порядке уже опасных социальных инфекций, в силу не столько того, что они, несомненно, обладают потенциалом быстрого распространения по всему миру, но и в силу серьезных последствий в виде переформатирования сознания человека, трансформация его сути. На сегодняшний день завершена трилогия: «Философия социальных инфекций: кибернетизация, виртуализация» (I том); «Философия социальных инфекций: эвтанизация, биочипизация» (II том); «Философия социальных инфекций: «роботизация, деперсонализация» (III том), которую выносим на суд читателей. Подчеркиваем, что в этих трудах рассмотрены шесть социальных инфекций технократического и социально-психологического характера: во-первых, кибернетизация и виртуализация; во-вторых, эвтанизация и биочипизация; в-третьих, роботизация и деперсонализация. Что значит технократическая парадигма? Это одна из трех парадигм компьютерной науки, утверждающая зависимость общества от способности технологий решать все проблемы. Также подчеркиваем, что, мы, будучи учеными и специалистами в области медицины (хирургия) и здравоохранения, а уже потом специалистами в сфере гуманитарных наук (философия, социология, психология), нам было интересно провести некоторую параллель между медицинскими и социальными болезнями при изложении специфики вышеуказанных социальных инфекций. В этом аспекте, вышеуказанные социальные инфекции с эндемическим, эпидемическим или пандемическим потенциалами являются, по сути, продуктом этой тенденции, а потому мы акцентировали свое исследовательское внимание именно на них, будучи уверенными в том, что в будущем каждой социальной инфекции вышеприведенного характера логически правильно будет придать уникальную конфигурацию социальных характеристик. Лишь после того, как они названы и приняты, эти заболевания становятся акторами сложной системы общественных, научно-исследовательских, культурологических взаимодействий. Восприятие вышеприведенных социальных болезней в форме инфекции не только определяется контекстом, но и определяет его, а потому только после установления философского смысла этих инфекций можно говорить о вероятной регуляции их институциональными программами, социально-психологическими, политико-экономическими мерами.
Сама по себе идея о научном исследовании тех или иных современных социальных инфекций, проведение анализа их по лекалам медицинских инфекций, усилилась после ковидной пандемии, когда почти каждый разумный человек на планеты, возможно, на себя и на своем опыте ощутил, что значит пандемия опасной инфекции, что значит инфекционный и пандемический процессы. На таком фоне писать и говорить о социальных инфекциях по аналогии со вспышками медико-биологических инфекций либо в виде эндемии, эпидемии или пандемии стало проще, ибо, люди уже в той или иной степени все же понимают суть заразной патологии. Речь идет о следующих понятиях: во-первых, понятия «возбудитель – переносчик», «источники – механизмы – пути заражения» (этиология, патогенез); во-вторых, понятия «контагиозность – вирулентность» (морфогенез); в-третьих, «вспышка – ремиссия – реконваленсция – реинфекция»); в-четвертых, «мониторинг распространения – изоляция – карантинизация – вакцинация». По сути, некоторые из вышеперечисленных социальных инфекций, в частности кибернетизация и виртуализация, по вышеприведенным признакам – это тот же «ковид», но в новой, так называемой технократической фармации, а социальные инфекции в виде эвтанизации и биочипизации – это пока эндемические инфекции, имеющие социально-психологический характер. Что касается социальных инфекций в виде роботизации и депресонализации, то они имеют, соответственно, технократический и социальный характеры, но уже с потенциалом эпидемического распространения.
Итак, люди на нашей планете сейчас не только знают и понимают, что значит на самом деле биологический инфекционный и эпидемический процессы, в чем заключается причины и механизмы заражения, а также особенности вспышки, но и осознали, что в случаях невозможности отграничить ареалы заразы возникает вероятность манифестации социальной инфекции в виде эндемии, эпидемии или даже пандемии, а также осознают возможности тех или иных превентивных мер. Однако, большинство людей совершенно не осведомлены о специфике социальных инфекций, возможно, задаваясь как можно трактовать цифровизацию (искусственный интеллект, генеративная нейросеть), автоматизацию, алгоритмизацию, кибернетизацию, информатизацию, биочипизацию, виртуализацию, роботизацию, киборгизацию, аватаризацию, эвтанизацию, деперсонализацию, дереализацию как разновидностей социальной инфекции. В этой связи, мы надеемся на то, что наше объяснение всей цепочки развития и проявления тех или иных социальных инфекций, преимущественно технократического характера, а также их последствий, по аналогии их представлений о биологическом инфекционном и эпидемическом процессах на примере недавней ковидной пандемии, для людей будет более понятным, доступным.
Нужно понимать, что такие социальные инфекции современности, как тотальная цифровизация, кибернетизация, виртуализация, аватаризация, биочипизация, роботизация, имеющие явный потенциал перерастании в социальную эпидемию и пандемию, а также такие социальные инфекции, как эвтанизация, деперсонализация, имеющие потенциал перерастания в социальную эндемию требуют философского осмысления, так как они обладают особой сущностью, во-первых, ведут к дереализации мира и деперсонализации человека; во-вторых, к глобальной и негативной перезагрузке стратегий и трендов развития всех сфер деятельности человека; в-третьих, к негативной трансформации самой сути человека и человеческой цивилизации. Между тем, масштабы их распространения в виде эндемии, эпидемии и пандемии подчеркивают необходимость объективного раскрытия их сущности, осмысления механизмов их «заражения» и распространения и, на этой основе выработать общую стратегию адаптации человека и общества к таким социальным инфекциям, а также выстроить более надежную борьбу за человека и человечества в целом. Кто знает, может быть самым целесообразным приемом, возможно, станет всемерное способствование человека встроится в сеть разума и виртуального света. Ведь привычного для банальной инфекции выработка естественного иммунитета, в том числе путем применения методов вакцинации для социальных болезней неочевидна. Кто знает, насколько в такой ситуации сыграет роль достаточный уровень научно-мировоззренческой культуры не только каждого индивида, но и всего человеческого сообщества, как своеобразная вакцина для выработки должного иммунитета против социальных инфекций. Однозначно то, что в настоящее время социальные инфекции в форме эндемии, эпидемии и пандемии, представляют собой фундаментальную сущностную проблему, разрешение которых кроется в предметном поле философии.
Введение
Нужно отметить, что в условиях глобализма, технократии и экстропии создались благоприятные условия для генерализации некоторых видов социальных инфекций до масштабов пандемии, то есть до вышей степени развития эпидемического процесса – глобального распространения. Своеобразными «возбудителями» таких инфекций являются не только соответствующие взгляды, мнения, идеи, эмоции, поведения, но и социальные феномены, обладающие свойствами «повторяемости, массовости, типичности, общественной значимости». Речь идет о явлениях, обусловленных на сегодня не только технократическим развитием человеческого сообщества – тотальная цифровизация, кибернетизация, аватаризация, виртуализация, применение искусственного интеллекта, нейросети и пр., но и современной стратегией и тенденцией развитие мировой экономики в направлении оказания населению планеты сущностных услуг в режиме «суперсервиса». Важно осознать, что указанные категории социальных инфекций при соответствующих условиях имеют явный потенциал перерастания в социальную пандемию. Кибернетизация – это объединение технологий и органики, создание гибрида биологического существа и машины. Иначе говоря машинизация человека, что невозможно без цифровизации, искусственного интеллекта, нейросети, информатизации, алгоритмизации, автоматизации. Виртуализация – это технология вычислительных ресурсов или их логического объединения, абстрагированное от аппаратной реализации, и обеспечивающее при этом логическую изоляцию друг от друга вычислительных процессов, выполняемых на одном физическом ресурсе. Эти термины нами использована в собирательном смысле. На наш взгляд, указанные феномены, условно обобщенные терминами «кибернетизация» и «виртуализация» в сумме, возможно рассматривать как двуединую социальную пандемию, которые в единстве своем заражении, развитии и проявлении могут привести к тотальной дереализации мира, то есть не только к глобальной и негативной перезагрузке стратегий и трендов развития всех сфер деятельности человека, но и к негативной трансформации самой сути человека и человеческой цивилизации.
Между тем, до сих пор не очерчены контуры философии подобных категорий социальных инфекций, обладающих потенциалом пандемий. А ведь любую эпидемию либо пандемию, будь то биологической, будь то социальной природы, следует воспринимать как глубокую трагедию всего человечества. Причем, не столь важно то, что они обостряют социальные противоречия, неравенства, несправедливость, сколько вызывают кардинальное расстройство социальной экосистемы, а также ведут к тотальному переформатированию сути человека и человеческого сообщества. В этом аспекте, тотальная цифровизация, кибернетизация, виртуализация, аватаризация, как не крути, являются социальным злом, если учесть серьезные социальные их последствия. Что касается явления «аватаризация», то он является ничем иным как маркером трансформации человека под влиянием кибернетизации и виртуализации. Это электронный абстрактный персонаж интернет-сети, нейросети или иначе желаемая модель самого себя.
Монография «Философия социальных инфекций: кибернетизация, виртуализация» посвящена философским аспектам, именно таких социальных пандемий на сегодняшний день, как «кибернетизация» (цифровизация, информатизация, искусственный интеллект, нейросеть), «виртуализация» (аватаризация, виртуальный мир). Нужно отметить, что в самом понятии «социальная пандемия» представлены все звенья заразного процесса: «зараза (возбудитель) – заразительность (прилипчивость, вирулентность) – объединители (резерванты, источник, первичный очаг) – обстоятельства (факторы заражения и распространения, восприимчивость)». Если заразой является идея тотального цифрового мира, то прилипчивость подразумевает специфику вездесущей нейросети, реализующую общемировую цифровую зависимость населения. Если объединители – это многомиллионный мировой корпус «цифровой мафии» (сетевики, блогеры, крэкеры, хаккеры, виртуалисты, программисты и пр.), то обстоятельства – это уже общепризнанная человечеством приемлемая унификация процессов развития и реализации потребительского запроса людей во всех сферах деятельности на основе тотальной цифровизации. Иначе говоря, первичная задача глобальной кибернетизации, виртуализации, аватаризации, каковым является «моделирование желаемой ситуации» уже интенсивно и повсеместно реализуется. На сегодня в мире сложилась ситуация зависимости, когда люди и общество уже не могут избавится от такой вирулентной социальной инфекции, не могут отвернуться от таких обстоятельств агрессивно-назойливого ее распространения. Так создаются благоприятные условие для развития пандемии кибернетизации и виртуализации.
Нужно признать тот факт, что в эпоху сверхтехнологий в мире происходит глобальная трансформация социума, обусловленная именно тотальной цифровизацией, кибернетизацией, биотехнологизацией всех сфер человеческой деятельности. В этом ракурсе, сетевая, кибернетическая сущность функционирования современного социума является одним из наиболее важных и актуальных исследовательских проблем, направленных не только для выяснения природы развития и распространения социальных инфекций, но и для соответствующей философской рефлексии по выявлению смысла и тенденций развития этих систем, а также обеспечения мировой безопасности на этой основе. В мире идет глобализированный процесс компьютеризации, кибернетизации, киборгизации как попытка, во-первых, оцифровизировать сознание людей, а. во-вторых, приспособить все человеческое сообщество к цифровой формально-логической среде. Как известно, механизмом обеспечения цифровой зависимости людей является свойство мозга вырабатывать дофамин. В этом аспекте, стратегией социальных инфекций является создание «дофаминовых ям» для усиления зависимости людей от социальных информационных сетей – фейсбук, инстаграм, твиттер, телеграмм, одноклассники и пр. Ярким примером служит тот факт, что нынешнее поколение школьников, студентов, сотрудников уже не могут обходится без Интернета, вбирая огромные массивы информации, но не осмысливая и не задумываясь, тем самым постепенно отвыкая от самостоятельного мышления. В этих обстоятельствах трудно сформировать личность из человека, у которого нет и не было системно выстроенных знаний, а есть лишь цифровая зависимость. Между тем, разнообразные электронные гаджеты, лайки, дизлайки, рекламы, цифровые платформы и социальные сети – все это хитросплетения нейросети, управляемые специальными компьютерными программами, разработанными множеством взаимосвязанных между собой корпорациями нейробиологов, нейрохимиков, нейроинженеров, нейродизайнеров. Ими же управляется виртуальная реальность, которую традиционно оценивают как дополненную и расширенную цифровизацию, вызывающую системные изменения во всех сферах существования человека. Именно она влияет на организацию времени и пространства, предлагая альтернативную версию реальности, погружая человека в иные, ирреальные отношения. В условиях цифровой эры, виртуализация трансформируется как смыслосфера, что свидетельствует о том, что тотальность повседневной жизни уже преодолена. Вот-так человек попадает в паутину ирреального мира с его новой парадигмой (Т.Г.Лешкеевич, О.В.Катаева, 2020). А что это значит? Прежде всего, это отчуждение человека от реальности, поверхностное мышление, примитивные пласты мировосприятия на уровне смайликов, гифок, картинок. Человек становится «просмотрщиком интернет-контента», «скитальцем сети», «сетьменом», но не всесторонней личностью.
Нужно отметить, что человек одновременно является источником и мишенью социальной инфекции. Потому, многое значит системно выстроенные знания в самом человеке, являющейся своеобразным фильтром от негативных заразительных мод и поветрий современности. В настоящее время во всем мире распространяется идея цифрового управления обществом на базе цифровой трансформации различных законных и незаконных услуг в проактивных режимах как «моносервиса», так и «суперсервиса» во имя, казалось бы, интересов человека и общества. Мы привыкли считать, что личность – это субъект познающий, думающий, принимающий решения, изменяющий мир к лучшему. Между тем, под сетевым воздействием человек превращается в пассивную цифровую личность, где действует постоянное принуждение мозга к выработке того самого дофамина настойчивым и назойливым призывом «надо повторить!». А что повторять? Повторять, впитывать те или иные заразительные идеи, взгляды, суждения, концепции. Вот-так постепенно человек превращается в некую цифровую личную тень, в аватара, который станет важнее, чем сам человек. Аватары живут в структуре киберпространства своей жизнью, но не могут жить в структуре самого социума, так как они не одушевлены, находясь в виртуальном мире. Между тем, так называемый киберсоциум нуждается в личностях, прошедших определенную киберсоциализацию, и генерирующих при этом активный трафик. Так цифровые тени становятся объектом Интернета, а через развитую в странах сети 5G они распространяются по всему свету. Их следует воспринимать как путей заражения и как факторы, обеспечивающих вирулентность этих видов социальной инфекции. С помощью такой технологии людей готовят к киборгизации, начиная с биочипирования и далее по мере развития нанотехнологий и нейросетей, вплоть до создания новых киберсуществ. Киборгизация носит сетевой динамический характер и способна превращать локальное в глобальное, единичное – во всеобщее одним кликом. В конечном итоге, такой процесс приведет к развитию антагонизма между человеком и его цифровой тенью. Изучение и разрешение противоречий между личностью живой и личностью цифровой должно лежать в основе методик киберадаптации и киберсоциализации. Нужно отметить, что аватар сформируется и адаптируется в цифровом обществе лишь при достижении полной синхронизации не только со своей цифровой тенью, но и цифровизацией всего общества. Вот-так рождается аватар, так формируется общество нового типа. А ведь интерфейс «человеческий интеллект – искусственный интеллект» уже создается. Таким образом, план киберсоциализации заключается в полном «растворении» человека в Сети, когда в условиях применением нейросетей, нанотехнологий и киборгизации рождается новое сетевое и виртуальное существо – «Сетьмен». Уже сейчас доступны первые модели систем дополненной реальности, ещё больше стирающие грань между реальным и виртуальным миром. Синергетический эффект от интерфейса человеческого интеллекта плюс искусственного интеллекта, безусловно, приведёт не только к качественному рывку в жизни общества, но и трансформации человека и общества.
На наш взгляд, необходимость осуществления научной рефлексии в любых областях знания опирается теперь на использование обновлённой методологии, опирающейся на такой мощнейший инструмент, как IT-технологический интерфейс человеческого мозга и искусственного интеллекта. Такая сингулярная технология уже вышла из недр научной фантастики, ко-эволюция и взаимоадаптация человеческого и искусственного, хотя имеют разные параметры и критерии, но уже близка к обоюдной сингулярности. Понятно, что природа человеческого – это непрерывность, континуальность осуществления во времени, а природа искусственного интеллекта (нейросети) – прерывность, дискретность, алгоритмичность, математичность функционирования, понятно и то, что совмещение их представляет собой сложный процесс. Однако, важен другой вопрос: однозначным результатом такой сингулярности будет окончательная потеря, прежде всего, аксиологичности человеческой цивилизации. Человек становится элементом кибернетической системы, и его идентичность (киберидентичность) наполняется смыслами, непосредственно связанными с тем, что мы называем «бытием-в-сети». Иначе говоря, речь идет не только об этиопатогенезе социальной зависимости, не только о неоднозначном проявлении, но и о неоднозначности последствий такого процесса. Естественно, методы изоляции, самоизоляции, карантинизации – важные при биологической инфекции, также необходимы при социальных инфекциях, но они при них малореализуемы или даже вовсе нереализуемы на практике. В этом аспекте, все факторы, способствующие «оздоровлению» населения от социальных недугов – это, прежде всего, тотальное просвещение населения. В условиях цифровизации, кибернетизации, биотехнологизации, несомненно, идет процесс активного «протезирования» способностей человеческого интеллекта с помощью искусственного интеллекта. С одно стороны, это хорошо. Однако, с другой стороны, накопление знаний как таковое не способно заменить собой собственно систему образования. В этой связи, как нам кажется, в структуре киберсоциализации обязательно должна присутствовать методология научного познания, системность формирования в сознании личности когнитивных моделей, а в конечном итоге формирования научно-мировоззренческой культуры высокого уровня. Таким образом, на наш взгляд, мера цифрового взаимодействия является именно тем фактором, который должен повлиять на эффективность киберсоциализации личности, сделать её гармоничной и естественной, сохраняя при этом индивидуальность человека, его возможность оставаться человеком во всех своих многообразных проявлениях.
В мире много мифов об искусственном интеллекте, но можно выделить их в две категории в зависимости от сценариев развития: во-первых, искусственный интеллект станет своеобразной надстройкой над человеческим мозгом; во-вторых, искусственный интеллект будет развиваться сам, и возможно, захватит мир. Трудно сказать, какой сценарий разовьется в будущем. Мы существуем в определенном пространстве на острие летящего времени. Соскочить из нее – это невозможно и баста! Ведь никто, никогда и не при каких обстоятельствах не сможет изменит ход времени. Отмерив нашу жизнь оно улетает в будущее. Лишь мыслью можно управлять временем, ускоряя его или замедляя, а также, что интересно, пуская его даже вспять. Нужно отметить, что идейной основой книги «Философия социальных инфекций: кибернетизация, виртуализация» являются научно-фантастические романы И.А.Ашимова: «Аватар» (2024); «Жизнь тысячу лет в прошлом» (2024). Хотелось бы подчеркнуть, что они одновременно служат формой аргументации идеи, в качестве литературного нарратива для последующего установления самого «философского факта» и его «анализ-синтеза». В этом аспекте, как авторы выступаем одновременно в двух ипостасях – как ученые и как писатели. В ипостаси ученых выносим на суд свое понимание философских аспектов социальных пандемий – кибернетизация, виртуализация. При этом вполне допускам, что читатель после прочтения скажет о том, что книга написана «двумя голосами» (писатель плюс философ) и между ними общение получилось слабым или даже неадекватным. В этой связи, призываем читателей обсуждать в основном саму идею и проблемное содержание жанра, а не допущенные огрехи словесных формул.









