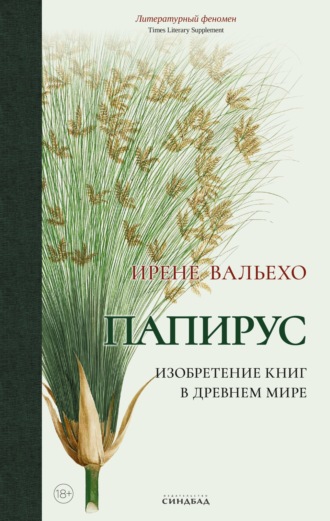
Полная версия
Папирус. Изобретение книг в Древнем мире
Кроме того, она отвечала идеалу смешения народов, о котором мечтал Александр для своей империи. Молодой царь, взявший в жены трех чужеземок, отец сыновей-полуварваров, планировал, пишет историк Диодор, заселить Азию европейцами, и наоборот, чтобы создать дружественный и семейственный союз между двумя континентами. Скоропостижная смерть помешала ему осуществить этот депортационный проект, замешанный на любопытном сочетании насилия и культа братских уз.
Библиотека открылась внешнему миру. В ней хранились греческие переводы важнейших иноязычных текстов. В одном византийском трактате сообщается: «Из каждого народа выбрали мудрецов, знавших в совершенстве и родной язык, и греческий; каждому сообществу мудрецов доверили разные книги, и таким образом все они были переведены». Именно тогда был создан греческий перевод Торы, известный как Септуагинта. Перевод иранских текстов, приписываемых Заратустре, – около двух миллионов стихов, – века́ спустя вспоминали как фантастический подвиг. Египетский жрец Манефон составил для библиотеки список династий фараонов и описал их деяния с незапамятных времен до Александрова завоевания. Чтобы создать эту хронику Египта на греческом языке, он разыскивал древние документы в десятках храмов, прочитывал и изымал. Другой двуязычный жрец, Берос, знаток клинописи, перевел на греческий описание вавилонских обычаев. Не обошлось и без трактата об Индии, написанного греческим посланником при дворе в Паталипутре, городе на берегах Ганга, на северо-востоке Индии. Никогда прежде переводческая работа не велась с таким размахом.
В библиотеке воплотилось все лучшее из мечтаний Александра: всемирность, жажда знаний, необычайная любовь к смешению. На библиотечных полках не существовало границ, и там наконец-то мирно зажили бок о бок слова греков, евреев, египтян, иранцев и индийцев. Эта территория разума стала для всех них, пожалуй, единственным гостеприимным домом.
11
Борхеса тоже завораживала идея исчерпывающего собрания книг. В рассказе «Вавилонская библиотека» перед нами предстает чудесный лабиринт, где обитают все слова и сны. Но мы сразу же чувствуем, что место это тревожное. Ощущаем, как наши фантазии окрашиваются в тона кошмара, становясь глашатаями современных страхов.
Вселенная, некоторые называют ее Библиотекой, – пишет Борхес, – своего рода чудовищный улей, существующий извечно. Она состоит из бесконечных одинаковых шестигранных галерей, соединенных винтовыми лестницами. В каждом шестиграннике есть лампы, полки и книги. Слева и справа от лестничной площадки – две комнатушки. В одной можно спать стоя, в другой – справлять нужду. В коридорах живут странные служащие, которых повествователь называет несовершенными библиотекарями. Каждый из них отвечает за определенное число галерей в бесконечном геометрическом пространстве.
В книгах Библиотеки содержатся все возможные сочетания двадцати трех букв и двух знаков препинания, то есть всё, что можно помыслить или выразить на любом языке, даже забытом. Следовательно, – говорит повествователь, – где-то на полке стоит и правдивый рассказ о твоей смерти. И подробнейшая история будущего. И автобиографии архангелов. И истинный каталог Библиотеки, и тысячи тысяч ложных каталогов. Обитатели улья так же ограниченны, как мы: они владеют от силы парой языков, и жизнь их коротка. Значит, статистическая вероятность, что кто-нибудь разыщет в неизмеримости туннелей нужную или хотя бы понятную ему книгу, ничтожна.
В этом и состоит великий парадокс. По шестигранникам улья снуют искатели книг, мистики, жаждущие разрушения фанатики, библиотекари-самоубийцы, пилигримы, идолопоклонники и прочие. Но никто не читает. В изнурительном сверхизобилии случайных страниц пропадает удовольствие от чтения. Все силы уходят на поиск и расшифровку.
Мы можем понимать этот рассказ как иронический, сплетенный на основе библейских и библиофильских мифов, упрятанных в архитектуру тюрем Пиранези и бесконечных лестниц Эшера. Но нас, сегодняшних читателей, Вавилонская библиотека поражает и как пророческая аллегория виртуального мира, необъятности интернета, этой гигантской информационной и текстовой сети, прореженной алгоритмами поисковиков, где мы теряемся, как призраки в лабиринте.
С помощью удивительно старого образа Борхес предсказывает современный мир. В рассказе интуитивно присутствует явление сегодняшнего дня: электронная сеть, то, что мы называем «паутиной», построена на принципе работы библиотеки. У истоков интернета лежала мечта о мировом общении. Требовалось построить маршруты, проспекты, воздушные пути для слов. Каждому тексту полагалась ссылка – линк, – по которой читатель мог найти его с любого компьютера в любом уголке мира. Тимоти Джон Бернерс-Ли, ученый-информатик, создатель Всемирной паутины, вдохновлялся упорядоченным и гибким пространством публичных библиотек. Подражая их механизмам, он придумал давать каждому виртуальному документу уникальный адрес, по которому к нему можно было получить доступ с другого компьютера. Этот универсальный локализатор – называемый в информатике URL – точный эквивалент библиотечного шифра. Потом Бернерс-Ли создал протокол переноса гипертекста – более известный по аббревиатуре http, – который действует как карточка, которую мы заполняем, чтобы заказать книгу у библиотекаря. Интернет есть преумноженная, обширная, эфирная эманация библиотек.
Мне кажется, человек, попадавший в Александрийскую библиотеку, испытывал примерно то же, что я, когда впервые вошла в интернет: изумление, головокружение от огромных пространств. Вот он, этот путник. Он высадился в порту Александрии и спешит к книжной твердыне. Как и я, он жаден до книг, его переполняет, едва ли не слепит предвкушение изобилия, различимого уже под колоннами портика библиотеки. Нам двоим, каждому в своей эпохе, приходит одна мысль: нигде еще не было собрано разом столько информации, столько всевозможных знаний, столько историй, в которых трепещет жизнь, пугающая и сладостная.
12
Но вернемся назад. Библиотеки еще не существует. Амбициозные мечты Птолемея о греческой столице Египта разбивались о грязную действительность. Через двадцать лет после основания Александрия была мелким строящимся городишкой, населенным солдатами, моряками, немногочисленными бюрократами, пытающимися справиться с хаосом, и своеобычной прослойкой хитрых торговцев, преступников, авантюристов и языкастых мошенников, всегда норовящих поживиться на новом месте. На прямых улицах, проложенных греческим зодчим, было грязно и воняло испражнениями. На спинах рабов не оставалось живого места от порки. Обстановка напоминала вестерн: насилие, энергия, хищнический дух. Смертоносный хамсин, восточный ветер, который века спустя будет терзать армии Наполеона и Роммеля, сотрясал город с наступлением весны. Надвигающийся хамсин напоминал гигантское кровавое пятно на далеком небосклоне. Потом тьма поглощала свет, и песок начинал вторжение, возводил удушливые, слепящие пыльные стены; пыль проникала в щели домов, высушивала глотки и носы, набивалась в глаза, вызывала приступы безумия, отчаяния, толкала на преступления. Через несколько часов воинственные вихри обрушивались в море под стоны жалящего ветра.
Птолемей решил непременно переселиться сюда со всем двором и созвать на этот малогостеприимный пятачок в пустыне лучших ученых и писателей своего времени.
Закипела работа. Выстроили канал, чтобы соединить Нил с озером Мареотис и морем. Птолемей начертил план огромного порта. И приказал возвести подле моря дворец, защищенный молом, огромную крепость, чтобы укрыться в случае осады, маленький запретный город, куда большинству ход был заказан, дом нечаянного правителя невероятного города.
Дабы облечь мечты в камень, Птолемей потратил много, очень много денег. Ему достался не самый большой, зато самый сочный кусок империи Александра. Слово «Египет» означало богатство. На плодородных берегах Нила вырастали прекрасные урожаи злаков – а именно этот товар, как впоследствии нефть, позволял контролировать мировые рынки. К тому же Египет торговал самым ходовым материалом для письма – папирусом.
Папирусная осока пьет корнями нильскую воду. Стебель – толщиной с мужскую руку, высота растения – от трех до шести метров. Из гибкого папирусного волокна простой люд делал веревки, циновки, сандалии и корзины. Древние предания помнят об этом: из папируса, скрепленного дегтем и смолой, была корзинка, в которой мать отпустила на волю нильских волн маленького Моисея. В третьем тысячелетии до нашей эры египтяне обнаружили, что из тростника получаются писчие листы, а к первому тысячелетию донесли это знание до всех народов Ближнего Востока. Веками евреи, греки, а потом и римляне писали на папирусных свитках. По мере того как средиземноморские общества становились более грамотными и усложнялись, потребность в папирусе возрастала и цены поднимались на фоне спроса. Папирус почти не произрастал за пределами Египта и, подобно минералу колтану для наших смартфонов, превратился в стратегическое сырье. Существовал обширный рынок; по торговым путям папирус отправлялся в Африку, Азию и Европу. Цари Египта монополизировали ремесленное производство и продажу; специалисты по древнеегипетскому языку полагают, что слова «папирус» и «фараон» – однокоренные.
Представим себе рабочее утро в фараоновых мастерских. Ранним утром рубщики отправляются на берег Нила; их шаги будят птиц, и те взлетают над тростниковыми зарослями. В рассветной прохладе работается споро; к полудню рубщики приносят в мастерские огромные охапки стеблей. Точными движениями снимают верхний слой и режут треугольный стебель на тонкие полоски в 30–40 сантиметров длиной. Выкладывают на плоскую доску слой полосок вертикально, а следующий – под прямым углом, горизонтально. Обстукивают деревянным молотком, чтобы выделившийся сок склеил слои. Выравнивают поверхность, ошкуривая пемзой или раковинами. Наконец, мучной болтушкой склеивают папирусные листы в длинную полосу, которую сворачивают в свиток. Чаще всего соединяют двадцать листов и тщательно полируют стыки, чтобы легче двигалась палочка писца. Купцы торгуют не отдельными листами, а свитками: кто пожелает написать письмо или какой другой короткий документ, сам отрежет нужный кусок. Свитки бывают от 13 до 30 сантиметров в ширину, а обычная длина колеблется от 3,2 до 3,6 метра. Однако протяженность может меняться, как количество страниц в наших книгах. Например, самый длинный свиток в коллекции Британского музея, папирус Харриса, первоначально имел длину 42 метра.
Свиток папируса стал огромным шагом вперед. Веками люди искали подходящий материал и писали на камне, глине, дереве или металле, и вот наконец язык нашел себе приют в живом материале. Первая книга в истории родилась, когда слова, знаки из воздуха, уютно устроились в сердце водной травы. И, в отличие от своих неподвижных жестких предков, книга с самого начала была гибкой, легкой, готовой к путешествиям и приключениям.
Папирусные свитки с длинными рукописными текстами, нанесенными каламом и краской, – так выглядели книги, прибывавшие в зарождающуюся Александрийскую библиотеку.
13
Образ Александра прямо-таки завораживал его полководцев, особенно после смерти царя. Они начали подражать его жестам, одеяниям, головным уборам, повороту головы. Устраивали пиры так, как ему нравилось, и чеканили его профиль на монетах. Один из гетайров отрастил волнистые кудри, чтобы рассыпались по плечам, как у Александра. Военачальник Эвмен утверждал, будто покойный царь является ему во снах и беседует с ним. Птолемей пустил слух, что приходится Александру братом по отцу. Однажды несколько соперничающих преемников собрались в шатре перед пустым троном и скипетром: во все время переговоров им казалось, что покойный руководит их спором.
Все тосковали по Александру и лелеяли его призрак, но в то же время бойко расколачивали на кусочки оставленную им мировую империю, убирая одного за другим царских родичей и предавая доверие самых близких. О такой любви, вероятно, думал Оскар Уайльд, когда написал в «Балладе Редингской тюрьмы»: «Каждый, кто на свете жил, любимых убивал».
В борьбе за память об Александре Птолемею удалось исхитриться и обыграть всех. Самый блестящий ход состоял в том, что он заполучил в свое распоряжение царский труп. Как никто другой, он понимал неоценимые возможности, крывшиеся в символическом выставлении напоказ бренных останков.
Осенью 322 года до нашей эры из Вавилона в Македонию отбыла похоронная процессия. Тело, бальзамированное медом и пряностями, везли в золотом гробу, на траурной колеснице, убранство которой источники описывают как трогательную китчевую мешанину из балдахинов, пурпурных занавесей, кистей, позолоченных статуй, шитья и венцов. Ранее Птолемей подружился с главой процессии. При его пособничестве добился, чтобы процессия сделала крюк в сторону Дамаска, после чего вышел наперерез с большим войском и похитил гроб. Генерал Диадох Пердикка, подготовивший в Македонии царскую могилу, чуть не задохнулся от ярости, прознав о похищении, и выступил в поход на Египет, однако в ходе провальной кампании был убит своими же воинами. Птолемей выиграл. Он перевез труп в Александрию и поместил в открытом для публики мавзолее, который превратился в притягательную достопримечательность для поклонников некротуризма. Попрощаться с Александром приехал, в частности, первый римский император Август. Он возложил на хрустальную крышку саркофага венок и попросил разрешения дотронуться до тела. Злые языки утверждают, что, целуя Александра, он сломал ему нос. Во время одного из народных бунтов саркофаг был разрушен, и до сих пор археологи безуспешно ищут место, где он находился. Некоторые полагают, что тело постиг конец, достойный космополита Александра: его растащили по кусочкам, понаделали амулетов и развезли по всему неизмеримому, некогда им завоеванному миру.
Говорят, когда Август почтил память Александра в мавзолее, его спросили, не желает ли он посмотреть усыпальницу Птолемеев. «Я пришел увидеть царя, а не мертвецов», – отвечал он. В этих словах отражена драма диадохов, преемников Александра: все считали их шайкой посредственных заместителей, жалким довеском к легенде. Им недоставало царской харизмы, и лишь присоседившись к образу покойного государя, они могли рассчитывать на уважение. Потому они и рядились в Александра изо всех сил, желая, чтобы люди их путали, – как в наши дни делают неутомимые подражатели Элвиса.
Следуя этой игре подобий и аналогий, царь Птолемей захотел нанять в учителя своим детям Аристотеля, некогда воспитавшего Александра. Но философ умер в 322 году, всего несколько месяцев спустя после кончины знаменитого ученика. Слегка разочарованный Птолемей вынужден был снизить планку и послал гонцов в школу Аристотеля в Афинах, Ликей, чтобы предложить щедро оплачиваемую должность самым прославленным мудрецам эпохи. Двое приняли предложение: один должен был заняться воспитанием царских отпрысков, второй – обустраивать Великую библиотеку.
Нового ответственного за приобретение и упорядочивание книг звали Деметрий Фалерский. Он изобрел ремесло библиотекаря, ранее не существовавшее. Молодые годы подготовили его к интеллектуальным задачам и умению управлять. Отучившись в Ликее, он на целое десятилетие нырнул в водоворот политики. В Афинах познакомился с первой библиотекой, построенной на принципах разума, – коллекцией самого Аристотеля, прозванного Читателем. В более чем двухстах трактатах Аристотель стремился познать структуру мира и разделил ее на части (физика, биология, астрономия, логика, этика, эстетика, риторика, политика, метафизика). Там, среди книжных полок учителя, успокаиваемый его строгими классификациями, Деметрий, вероятно, и понял, что владение книгами – все равно что балансирование на канате. Попытка соединить разрозненные фрагменты вселенной, пока не получится наделенное смыслом целое. Гармоничная архитектура, противостоящая хаосу. Песчаная скульптура. Берлога, куда мы тащим все, что страшимся забыть. Память мира. Волнорез, о который разбивается цунами времени.
Деметрий перенес в Египет аристотелевскую модель мышления, венчавшую в ту пору западную науку. Говорили, что Аристотель научил александрийцев устройству библиотеки. Это нельзя понимать буквально, ведь он никогда не бывал в Египте. Зато оказал влияние косвенно, через своего удачливого ученика, бежавшего в юный город от превратностей афинской политики. Однако, несмотря на добрые намерения, Деметрий не смог противиться соблазну и пустился в интриги при дворе Птолемея. Участвовал в заговорах, впал в немилость, был арестован. И все же его пребывание в Александрии оставило ощутимый след. Благодаря ему в Библиотеке поселился благожелательный призрак, дух Аристотеля, страстного любителя книг.
14
Деметрий должен был регулярно посылать Птолемею отчет о том, как продвигается работа. Начинал он так: «Великому царю от Деметрия. Повинуясь царскому приказу добавить к собранию Библиотеки недостающие книги и сделать ее полной, а равно и восстановить должным образом книги, которых не пощадила изменчивая фортуна, я взялся за дело со всем тщанием и теперь отчитываюсь».
Дело не отличалось простотой. Греческих текстов было почти не раздобыть, не преодолевая огромных расстояний. В храмах, дворцах и богатых домах свитки имелись в изобилии, но на египетском, а Птолемей не снизошел бы до изучения языка своих подданных. Одна только Клеопатра, последняя в роду, обладавшая, по свидетельствам, поразительными способностями к языкам, умела говорить и читать по-египетски.
Деметрий выбрал людей, вооружил, снабдил деньгами – и отправил в Анатолию, на острова Эгейского моря и в Грецию, в погоню за греческими текстами. В то же время, как я упоминала, таможенников обязали обыскивать все прибывавшие суда и изымать все найденные на борту книги. Вновь купленные или конфискованные произведения отправлялись в хранилища, где подручные Деметрия описывали их и составляли каталог. Те книги представляли собой папирусные цилиндры без всяких обложек и корешков – не говоря уже о суперобложках, в том числе изготовленных к случаю, призванных дать нам понять, какой знаменитый потрясающий шедевр скрывается под ними. Тогда догадаться о содержании книги с первого взгляда было трудно, а если у кого-то имелась дюжина книг и он желал частенько в них заглядывать, начинался настоящий кавардак. Для библиотеки это и подавно не годилось, и решение нашли – но не идеальное. Заполняя полки, у краешка каждого свитка помещали табличку – так и норовившую упасть – с указанием автора, названия и происхождения текста.
Рассказывают, во время очередного царского визита в библиотеку Деметрий предложил пополнить коллекцию книгами иудейского закона, тщательно выверенными. «Что же тебе мешает?» – удивился царь. Он давно дал библиотекарю карт-бланш. «Нужен перевод. Они написаны по-еврейски».
Мало кто понимал тогда по-еврейски даже в Иерусалиме, где большинство населения говорило на арамейском, – на этом же языке несколько веков спустя проповедовал Иисус. Александрийские евреи – могущественная община, занимавшая целый квартал города, – начали потихоньку переводить свои священные книги на греческий, но дело двигалось медленно и урывками, поскольку наиболее ортодоксальные сопротивлялись новшествам. В синагогах шли ожесточенные споры, как позже у католиков в связи с прекращением месс на латыни. Следовательно, если главный библиотекарь намеревался заиметь полную и точную версию Торы, ее требовалось заказать.
Предание гласит, что Деметрий написал письмо первосвященнику Елеазару в Иерусалим. От имени Птолемея он попросил прислать в Александрию лучших знатоков Закона, способных перевести его. Елеазар с радостью ответил на письмо и принял прилагавшиеся к письму дары. Через месяц, проделав долгий путь по обжигающим синайским пескам, в Египет прибыли семьдесят два иудейских мудреца, по шести от каждого колена, лучшие из лучших среди раввинов. Их поселили у самого моря, в доме на острове Фарос, «погруженном в глубокий покой». Деметрий с помощниками часто навещал их и проверял, как двигается работа. Считается, что в спокойствии и уединении они закончили перевод Пятикнижия за семьдесят два дня, а потом вернулись в Иерусалим. В память об этой истории греческий перевод Библии называется «Библией семидесяти толковников».
Тот, кто поведал нам об этих событиях, некий Аристей, утверждает, что видел все своими глазами. Сегодня мы знаем, что текст Аристея – фальсификация, но сквозь хитросплетенные выдумки в нем проглядывают исторические факты. Мир менялся, и Александрия не отставала от него. Греческий язык превращался в новый лингва франка, язык-посредник. То был, разумеется, не греческий Еврипида или Платона, а доступная разновидность, называемая койне, нечто наподобие корявого английского, на котором мы изъясняемся в отелях и аэропортах, когда едем в отпуск. Македонские цари решили насадить греческий по всей империи как символ политической силы и культурного превосходства, не оставляя ближнему выбора: хочешь чего-то добиться – учи язык. И все же универсальное мышление Александра и Аристотеля нашло некоторый отклик в их неподатливых шовинистических умах. Новых подданных, соображали они, для лучшего управления тоже нужно понимать. В этом свете легко объяснимы экономические и интеллектуальные усилия по переводу иноязычных книг, особенно религиозных текстов, каковые суть карты душ человеческих. Александрийская библиотека появилась не только чтобы дать приют прошлому и его наследию. Она подгоняла создание общества, которое мы можем считать – как и наше – глобализованным.
15
Эту первоначальную глобализацию принято называть «эллинизмом». Общие обычаи, верования и образ жизни укоренились на завоеванных Александром территориях – от Анатолии до Пенджаба. Греческой архитектуре подражали в далекой Ливии и даже на острове Ява. На греческом языке африканцы могли общаться с азиатами. Плутарх утверждает, что в Вавилоне читали Гомера, а дети в Персии, Сузах и Гедросии – ныне эта территория разделена между Пакистаном, Афганистаном и Ираном – изучали на уроках трагедии Софокла и Еврипида. Благодаря торговле, образованию и смешению народов огромная часть мира оказалась подвержена культурной ассимиляции. От Европы до Индии то тут, то там попадались узнаваемые города: пересекающиеся под прямым углом широкие улицы – по гипподамовой системе, агоры (площади для торговли и народных собраний), театры, гимнасии, надписи на греческом, храмы с разукрашенными фронтонами. Это были отличительные знаки тогдашнего империализма, какими сегодня являются кока-кола, Макдоналдс, неоновая реклама, торговые центры, голливудское кино и продукты Apple, причесывающие мир под одну гребенку.
Как и в наши дни, недовольных хватало. Среди завоеванных народов многие сопротивлялись колонизации. Но и между греками встречались брюзги, вспоминавшие времена аристократической независимости и неспособные вжиться в новое космополитичное общество. О святая чистота былого! Внезапно повсюду стало полно вшивых иноземцев. Мир расширял горизонты, люди перебирались с места на место, свободные работники не могли конкурировать с восточными рабами. Рос cтрaх перед другим, иным. Грамматик по имени Апион возмущался, что евреи занимают лучший квартал в городе, прямо у царского дворца, а Гекатей, грек, посетивший Египет при Птолемеях, сетовал на ксенофобию со стороны иудеев. Случались стычки, иногда кровопролитные, между общинами. Историк Диодор сообщает, что однажды толпа взбешенных египтян разорвала на куски чужеземца, убившего священное животное – кошку.
Перемены давались тяжело. Многие греки, веками жившие в маленьких городах, где управление осуществляли местные граждане, вдруг оказались подданными огромных царств. Им казалось, будто их вырвали с корнем, переместили, будто они затеряны в необъятной вселенной и зависят от далеких сил, к которым не подступишься. Восторжествовал индивидуализм, обострилось чувство одиночества.
Эллинистическая цивилизация – тревожная, легкомысленная, театральная, смятенная, сбитая с толку стремительными изменениями – порождала противоречивые устремления. Словно по Диккенсу, «это было лучшее из всех времен, это было худшее из всех времен». Процветали разом скептицизм и суеверия, любопытство и предрассудки, терпимость и нетерпимость. Некоторые люди начинали считать себя гражданами мира, другие впадали в крайний национализм. Идеи перекликались, преодолевали границы, с легкостью смешивались. Царил эклектизм. Стоическая мысль, которой отмечены вся эпоха эллинизма и времена Римской империи, учила избегать страдания через спокойствие, отсутствие желаний и укрепление духа. Буддисты с востока могли бы подписаться под такой программой самопомощи.
Несостоятельность идеалов прошлого породила у греков острую ностальгию по иным временам, но также и новую забаву: пародирование старинных героических сказаний. Александр завоевал мир, не выпуская из рук «Илиады», а вскоре неизвестный поэт высмеял его подвиги в комической эпопее «Батрахомиомахия», рассказывавшей о битве армий Щекодува, царя лягушек, и Крохобора, царевича мышей. Вера в богов и мифы истончалась, уступая место непочтительности, растерянности и тоске. Через несколько десятилетий увлеченный прошлым александрийский библиотекарь Аполлоний Родосский воздал почести древнему эпосу в поэме о приключениях Ясона и аргонавтов. Современные синефилы обнаружат подобный тон в закатном вестерне Клинта Иствуда «Непрощенный», а иконоборческий ироничный смех – у Тарантино, во взрывающем жанр «Джанго освобожденном». Ехидство и меланхолия образовывали сплав, очень близкий нашей эпохе.



