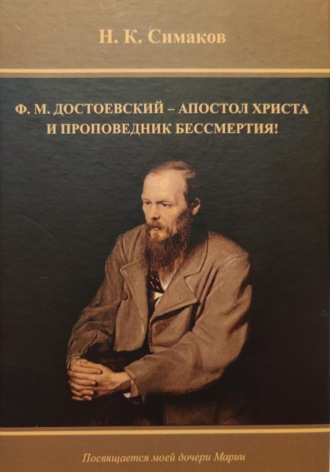
Полная версия
Ф.М. Достоевский – апостол Христа и проповедник бессмертия

Николай Симаков
Ф.М. Достоевский – апостол Христа и проповедник бессмертия
Посвящается моей дочери Марии
1. Религиозный мыслитель и пророк.
Ф.М.Достоевский входит в ряд великих писателей мировой литературы, таких как Данте, Сервантес, Шекспир, Гёте. Он относится к тем великим религиозным мыслителям и пророкам, которые появляются на земле, когда человечество оказывается в глубоком духовном и мировоззренческом кризисе, чтобы вести их ко Христу и к спасению.
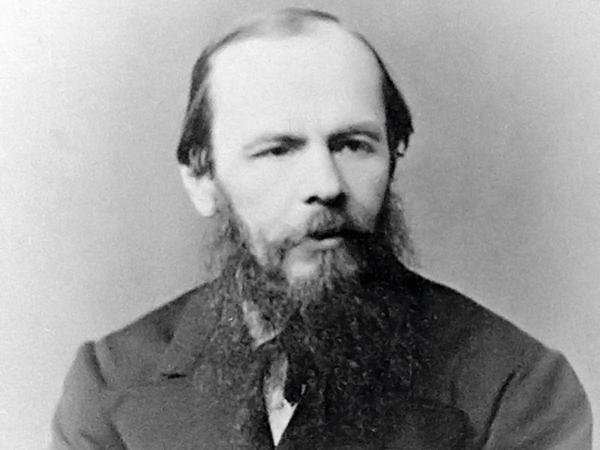
В 20 веке Ф.М.Достоевский для русской и мировой религиозно-философской мысли имел такое же значение как Платон для древнегреческой философии, святой Августин Блаженный для средневековой теологии, а Ф. Ницше и С. Кьеркегор для новоевропейской философии.
В 19 веке он воспринимался как большой русский писатель. Как религиозному мыслителю и пророку Ф.М.Достоевскому не повезло в благополучном 19 веке, где он был почти «гласом вопиющего в пустыне». Зато в 20 веке в эпоху катастроф, революций и мировых войн, когда порвалась связь времен и обнажились метафизические проблемы человека. Это прежде всего проблемы теодицеи и антроподицеи, как совместить существование Бога и мирового зла в человеке и в истории, проблемы свободы, спасения и бессмертия. К нему будут обращаться не раз в 20 веке как к религиозному мыслителю – пророку, будущих судеб России и человечества.
Многие мыслители и писатели «серебряного века» считали Ф.М.Достоевского своим духовным отцом – одним из основателей русского религиозно-философского ренессанса 20 века. К ним в первую очередь относятся: Д.С. Мережковский, В.В. Розанов, Н.А. Бердяев, Вячеслав Иванов, С.Н. Булгаков и другие. Все они видели в Ф.М. Достоевском великого религиозного мыслителя, с которого началась эпоха «проклятых вопросов», поставленных им впервые перед русской религиозно-философской мыслью. «Идеи Ф.М.Достоевского – духовный хлеб насущный. Без них жить нельзя. Нельзя жить, не решив вопросы о Боге и дьяволе, о бессмертии, о свободе, о зле, о судьбе человека и человечества», писал Н.А. Бердяев. «Мы, продолжал он, – духовные дети Ф.М.Достоевского. Мы хотели бы ставить и решать «метафизические вопросы» в том духе, в котором их ставил и решал Достоевский»(1).Порой кажется, что целый ряд русских религиозных мыслителей и писателей 20 века прямо сошли со страниц романов Ф.М.Достоевского и продолжают вести споры на вековечные темы: о Боге, бессмертии души, свободе, спасении и т.д.
Действительно, русская религиозно-философская мысль 20 века во многом вышла из «проклятых вопросов», поставленных Ф.М. Достоевским и родилась из его философских идей и религиозных взглядов. Целый ряд направлений в русской мысли прошлого века: религиозный модернизм, христианский персонализм и экзистенциализм не без основания считали Ф.М.Достоевского своим основоположником.

митрополит Антоний (Храповицкий)
Для многих Ф.М.Достоевский явился не только религиозным мыслителем, но и пророком, предсказавшим истребительную революцию в России, как анархический и нигилистический бунт, как «восстание масс» против Бога в 20 веке. «Но вот грозные предсказания сбылись во всей точности, писал митрополит Антоний (Храповицкий); народ утонул в крови, исчах от голода и холода, сгнил от болезней; все возненавидели друг друга. Хватаясь за голову и ломая руки, они восклицали; ведь всё это нам предсказано; всё это всей стране возвещалось в книгах (роман «Бесы» и др.), которые мы все читали; но мы, безумные, смеялись над нашим пророком именно за эти предсказания, хотя и благоговели перед его гениальным умом и талантом».(2)
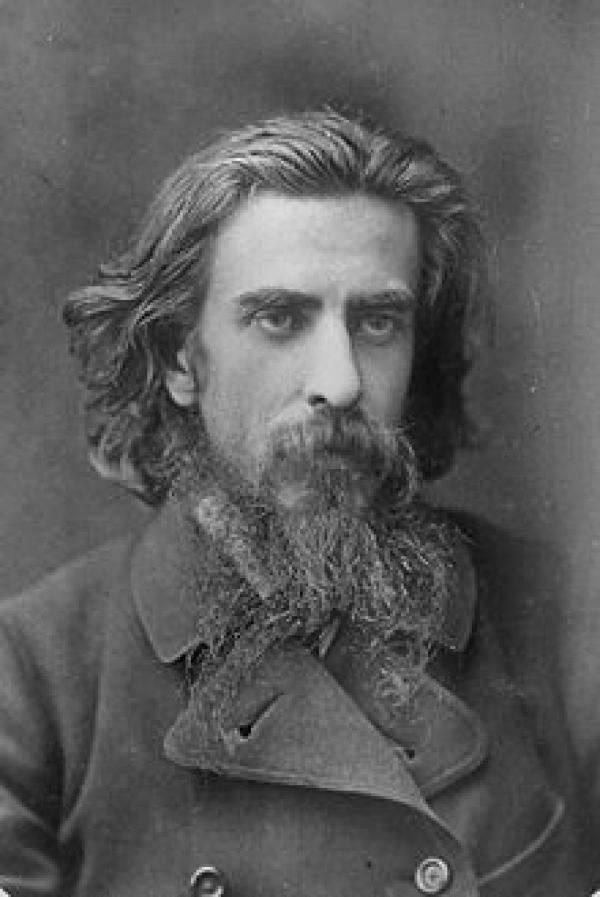
Владимир Сергеевич Соловьев
Выдающийся русский религиозный философ В.С. Соловьев называл Ф.М. Достоевского – духовным вождем русского народа и пророком Божьим. Как христианский мыслитель и пророк, Ф.М.Достоевский предчувствовал опасность, надвигающуюся на человечество эпоху воинствующего атеизма и богоборчества в виде различных разрушительных идеологий материализма, нигилизма, анархизма, воинствующего атеизма, либерализма, социализма и коммунизма. Он противопоставлял им русскую идею как «всесветлое единение во имя Христово», которым была для него Церковь. «Я не про здания церковные теперь говорю, писал Ф.М.Достоевский, и не про притчи, я про наш русский «социализм» теперь говорю (и это обратно противоположное Церкви слово беру именно для разъяснения моей мысли, как ни показалось бы это странным), цель и исход которого всенародная и вселенская Церковь, осуществленная на земле, поскольку земля может вместить её. Я говорю про неустанную жажду в народе русском, всегда в нём присущую, великого, всеобщего, всенародного, всебратского единения во имя Христово.… Не в коммунизме, не в материалистических формах заключается социализм народа русского; он верит, что спасется лишь, в конце концов, всесветлым единением во имя Христово».(3)
Для Ф.М.Достоевского быть русским означало быть православным. Он считал русский народ, народом-богоносцем, главное призвание которого служить Господу Иисусу Христу и Вселенскому Православию. «В народе нашем, писал он, бесспорно сложилось даже такое понятие, что вся Россия для того только и существует, чтобы служить Христу и оберегать от неверных всё Вселенское Православие».(4) Ф.М.Достоевский глубоко верил и предсказывал, что у России и у русского народа есть особая религиозно-мессианская роль в истории – нести православную веру во Христа для спасения народов мира и быть «удерживающим» от антихриста. «Сущность русского призвания, говорил он – состоит в разоблачении перед миром Русского Христа, миру не ведомого и которого начало заключается в нашем родном Православии».(5) Эта вера и пророчество Ф.М.Достоевского сбылись в 20 веке в апостольской миссии русской белой эмиграции. Многочисленные русские беженцы и изгнанники построили и открыли в разных странах мира православные Храмы и монастыри, создали целые епархии русской зарубежной церкви. Они не только сумели сохранить чистоту Православия и свободу вероисповедания, но также принесли веру во Христа различным народам Востока и Запада.
Для многих людей, живущих в разных странах мира, Ф.М.Достоевский стал тем духовным учителем человечества, который привел их к вере во Христа Спасителя. Особенно для поколения тех, кто пережил трагедию революции 1917 года и катастрофу крушения России. Важную роль сыграл Ф.М. Достоевский и для поколения людей родившихся и живших в СССР после второй мировой войны под властью тоталитарного и атеистического государства, в котором «смерть Бога» была «научно доказана» – «диаматом» и «истматом» и поэтому стала для всех общеобязательна.
Вместе с русскими религиозными мыслителями: Вл. Соловьевым, отцом Павлом Флоренским, отцом Сергием Булгаковым, С. Трубецким, Е. Трубецким, Н. Бердяевым, Н. Лосским, Л. Карсавиным, Г. Федотовым, И. Ильиным и другими Ф.М. Достоевский открыл в это время нескольким поколениям «советских людей» путь к религиозному смыслу жизни и христианской свободе. Русская религиозная философия и Ф.М.Достоевский стали путеводителями ко Христу. Они ставили и разрешали те важнейшие метафизические вопросы, которые мучили и неизбежно вставали перед человеком и человечеством в 20 веке. Ф.М. Достоевский, В.С. Соловьев, К.Н. Леонтьев, отец Павел Флоренский, Е. Трубецкой, Н.А. Бердяев, И.А. Ильин и другие стали для духовно ищущей интеллигенции, в то время как апостолы и проповедники Христа. Подобно тому, как Моисей освободил свой народ из египетского плена, Ф.М.Достоевский сумел своей проповедью Христа и бессмертия души вывести в 20 веке души очень многих людей из атеистического и богоборческого плена, особенно живших под властью богоборческой идеологии и советского тоталитарного государства.
Ф.М.Достоевский и русская религиозная философия 20 века заложили необходимые мировоззренческие основы Православного Возрождения, которое началось в годовщину Тысячелетия Крещения Руси в 1988году. А уже после падения в 1991 году советской богоборческой власти и тоталитарного государства, оно превратилось, по словам патриарха Алексия – поистине во Второе Крещение Руси, стало возвращением нашего народа ко Христу Спасителю. Православное Возрождение – это великое чудо победы Веры над воинствующим безбожием в душах и сердцах людей, стало возможным и благодаря многочисленным сонмам св. Новомучеников и Исповедников Российских, пролившим свою кровь за веру православную, Христа и Церковь на Голгофе в многострадальном 20 веке. Поэтому так пророчески для нас звучат слова Ф.М.Достоевского «Может быть единственная любовь народа русского есть Христос и он любит Его по- своему, то есть до страдания».(6)
2. "Проклятые вопросы" Ф.М.Достоевского в философии христианского персонализма Н.А. Бердяева и Н.О. Лосского.
Идеи и взгляды Ф.М. Достоевского оказали огромное влияние на философию христианского персонализма, наиболее яркими представителями которого в 20 веке в России стали Н.А. Бердяев и Н.О. Лосский.
В предисловии к своей книге "Миросозерцание Достоевского" Н.А. Бердяев писал: "Достоевский имел определяющее значение в моей духовной жизни. Еще мальчиком получил я прививку от Достоевского. Он потряс мою душу более чем кто-либо из писателей и мыслителей. Я всегда делил людей на людей Достоевского и людей, чуждых его духу. Очень ранняя направленность моего сознания на философские вопросы была связана с "проклятыми вопросами" Достоевского"(1).
Как и для Достоевского, проблема человека как духовной личности стала главной темой для христианского персонализма, как особого религиозно-философского течения русской мысли. Человек – микрокосм и тайна мира заключена в человеке. Вне человека нет истории и бытие мира непостижимо, утверждает персонализм. "Весь мир ничто по сравнению с человеческой личностью, с единственным лицом человека, с единственной его судьбой»,(2) писал Н.А. Бердяев.
Именно потому, что человек является личностью сотворенной по образу и подобию Божию, перед ним и встают «проклятые вопросы», которые необходимо разрешить.
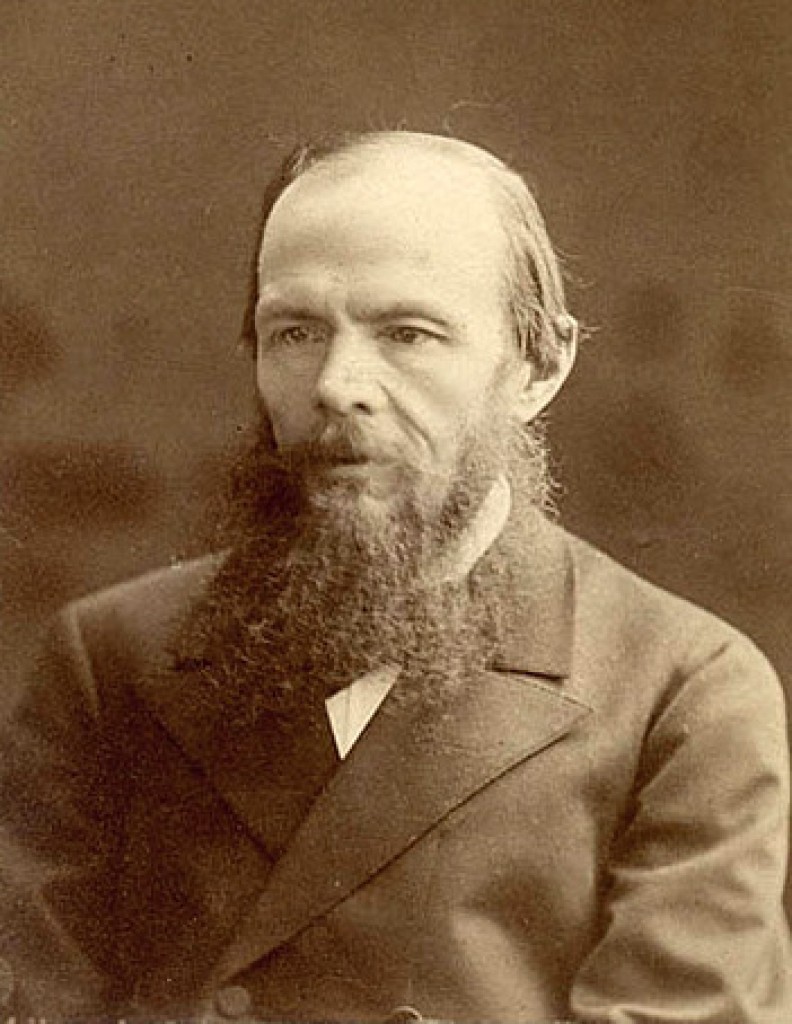
Ф.М. Достоевский
Разрешение этих метафизических вопросов – о Боге, бессмертии, свободе, мировом зле, спасении всех и составляет цель и смысл жизни человека, как и для многих героев Достоевского. Это и есть подлинный путь самопознания, который собственно и делает человека человеком, то есть личностью, утверждает вместе с Достоевским философия персонализма. "Другим одно, а нам, желторотым, другое, нам прежде всего надо предвечные вопросы разрешить, вот наша забота", – говорит Иван Карамазов. "Да, настоящим русским вопросы о том: есть ли Бог и есть ли бессмертие, или, как ты говоришь, вопросы с другого конца, – конечно, первые вопросы и прежде всего, да так и надо…" (3), – соглашается с Иваном Алеша Карамазов.
Поэтому неслучайно Н.А. Бердяев видит в Достоевском того, кто заново открыл метафизическую природу личности через "проклятые вопросы". "Тут впервые в гениальной диалектике идей "Записок из подполья" Достоевский делает целый ряд открытий о человеческой природе. Человеческая природа полярна, антиномична и иррациональна. У человека есть неискоренимая потребность в иррациональном, в безумной свободе, в страдании"(4).
Иван Карамазов – «русский Фауст» наиболее яркий герой Достоевского, которого мучают "проклятые вопросы" и прежде всего вопросы о Боге, бессмертии, свободе, страдании и всеобщем спасении. Если перевести их на язык философии персонализма, то это проблема теодицеи (оправдания Бога перед лицом мирового зла) и проблема апокатастасиса (всеобщего спасения).
Может быть, наиболее близкой к Ивану Карамазову стала философия свободы Н.А. Бердяева.
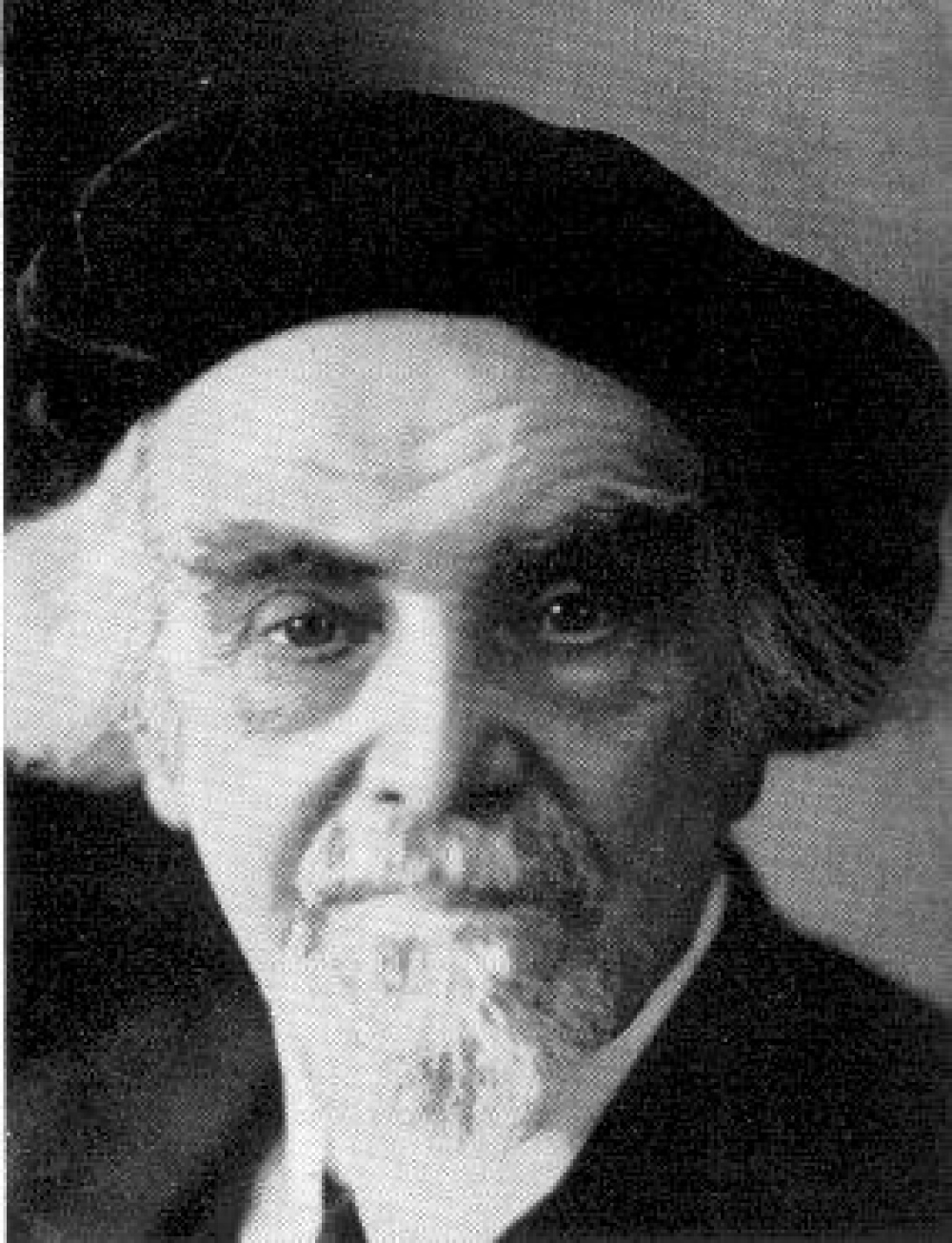
Николай Александрович Бердяев
Подобно Ивану Карамазову Бердяев не принимает "мира лежащего во зле", но хочет избежать манихейско-гностического дуализма и как следствие бунта против Промысла Божия. Бердяев считает, что рационализм, «эвклидов ум», помешали Ивану Карамазову понять тайну свободы и иррациональную природу зла. Рационально нельзя, считал Н.А. Бердяев, обосновать теодицею, так как она связана с тайной свободы. Бердяев стремился создать теодицею исходя из своего учения о бездонно-меонической природе свободы: "Человек эвклидова, вполне рационального ума не может понять, почему Бог не создал безгрешного, блаженного, неспособного ко злу и страданиям мира.
Но добрый человеческий мир, мир «эвклидова ума» отличался бы от злого Божьего мира тем, что в нем не было бы свободы, свобода не входила бы в его замысел, человек был бы добрым автоматом, писал Н.А. Бердяев. «Эвклидов рациональный человеческий мир, в котором нет зла, поражен будет страшным злом отсутствия свободы, истреблением свободы духа без остатка. Проблема теодицеи разрешима лишь свободой. Тайна зла есть тайна свободы. Без понимания свободы не может быть понят иррациональный факт существования зла в Божьем мире. В основе мира лежит иррациональная свобода, уходящая вглубь бездны… Свобода заложена в темной бездне, в ничто, но без свободы нет смысла. Свобода порождает зло, как и добро. Поэтому зло не отрицает существования смысла, а подтверждает его. Свобода не сотворена, потому что она не есть природа, свобода предшествует миру, она вкоренена в изначальное ничто. Бог всесилен над бытием, но не над ничто, но не над свободой. И потому существует зло"(5).
Целью философии свободы Бердяева было «освободить Бога» от ответственности за существование зла в мире, которое так часто толкало в 20 веке человека к бунту против Творца, что особенно остро проявилось, по его мнению, в богоборческой стихии русской революции.
Н.А. Бердяева часто называли "пленником свободы", так как в своем учении он фактически обожествил свободу, поставив ее выше Творца и вновь (как Иван Карамазов) пришел к дуализму.
Н.А. Бердяев и Н.О. Лосский считали проблему всеобщего спасения (апокатастасиса) основной и главной для обоснования теодицеи: "Нельзя сформулировать никакую теодицею в отрыве от учения об апокатастасисе или всеобщем спасении"(6), – писал Н.О. Лосский.
Как христианские персоналисты они верили во всеобщее спасение, которое, по их мнению, является не только оправданием Бога – теодицеей, но и антроподицеей, то есть оправданием человека как личности и в целом смысла жизни.
"Да неужто и впрямь приходил ты лишь к избранным и для избранных?"(7), – вопрошает великий инквизитор Христа в легенде Ивана Карамазова. Этот вопрос также относится к тем "проклятым вопросам", которые мучают героев Достоевского жаждущих всеобщего спасения, не только праведников, но и грешников. Достаточно вспомнить исповедь Мармеладова в "Преступлении и наказании". "И всех рассудит и простит, и добрых и злых, и премудрых и смирных… И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголет и нам: "Выходите, скажет, и вы! Выходите пьяненькие, выходите слабенькие, выходите соромники!" И мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И скажет: "Свиньи вы! Образа звериного и печати его; но приидите и вы!" И возглаголят премудрые, возглаголят разумные: "Господи! Почто сих приемлеши?" И скажет: "Потому их приемлю, премудрые, потому приемлю, разумные, что ни единый из них сам не считал себя достойным сего…" И прострет к нам руце свои, и мы припадем… и заплачем… и все поймем! Тогда все поймем!.. и все поймут… и Катерина Ивановна… и она поймет… Господи, да приидет Царствие Твое!» (8)
Однако проблема всеобщего спасения была одной из основных не только для Достоевского, но и для всей русской религиозно-философской мысли 20 века.
Достаточно перечислить лишь некоторые имена русских мыслителей: о. Сергий Булгаков, Е.Н. Трубецкой, В.И. Несмелов, В.Н. Ильин, Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский и др.
Н.А. Бердяев считал, что православному Востоку всегда была более свойственна идея всеобщего спасения, тогда как Западу идея ада. По его мнению, идея вечных мучений грешников в аду восторжествовала в западном христианстве как идея справедливого возмездия и суда Божия. Эта идея "карательной справедливости", по словам Бердяева, начинается у блаженного Августина, затем у Фомы Аквинского и завершается у Данте и Кальвина. Уже Августин писал о предопределении и о малом числе спасенных и значительно большем числе осужденных на вечные мучения. Фома Аквинский говорил даже, что избранные будут испытывать радость, видя муки осужденных, от которых они избавлены благодаря "божественной справедливости". Наконец Кальвин дошел в своем учении о "двойном предопределении", до идеи безусловного предопределения Богом одних людей к «вечному спасению, а других к вечной гибели» вне зависимости от их нравственного состояния и дел веры.
Н.А. Бердяев полагал, что идея ада "скорее манихейская, чем христианская" и в нее вошло древнее чувство мести, перенесенное из времени в вечность.
"Никакого ада как объективной сферы бытия не существует, писал он, это совершенно безбожная идея, скорее манихейская, чем христианская. Поэтому, по его мнению, совершенно невозможна и недопустима никакая онтология ада"(9).
Отрицая ад как "божественную справедливость" и выступая против онтологии ада, Бердяев (как философ свободы и персонализма) вместе с тем допускал, что человек может сам созидать его своей свободной волей. "Ад допустим в том смысле, что человек может захотеть ад, предпочесть его раю, может себя лучше чувствовать в аду, чем в раю"(10). Необходимо отметить, что по мысли Н.А. Бердяева только человеческое легкомыслие, связанное с потерей веры в бессмертие отвергает проблему ада и его существования. "Можно поражаться, как люди мало думают об аде и мало мучаются о нем, писал он. В этом более всего сказывается человеческое легкомыслие. Человек способен жить исключительно на поверхности, тогда не предстоит ему образ ада. Потеряв сознание вечной и бессмертной жизни, человек освободил себя от мучительной проблемы ада, сбросив с себя тяжесть ответственности"(11).
В отличие от Запада на православном Востоке, по мнению Бердяева, всегда сохранялась вера во всеобщее спасение всех людей во Христе. Русская религиозно-философская мысль 20 века стала продолжательницей этой традиции сотериологии. Только вера во Христа Спасителя всех человеков есть истинный путь спасения от ужаса ада, полагал Бердяев.
"Борьба против ужаса ада возможна только во Христе и через Христа. Вера во Христа, в Христово Воскресение и есть вера в победимость ада. Вера же в вечный ад есть в конце концов неверие в силу Христа, вера в силу дьявола"(12).
Сотериология у Бердяева тесно связана и с эсхатологией, она построена на явлении Христа-Спасителя и искупителя, который "пришел не судить мир, но спасти мир" (Иоанн, 12,47) и открыть путь для человека в Царство Божие.
"Явление Христа и есть спасение от ада, который человек уготовляет самому себе, – пишет Бердяев. – Явление Христа означает поворот души от созидания ада к созиданию Царства Божьего. Без Христа-Искупителя и Спасителя Царство Божие для человека недоступно и недостижимо. Нравственные усилия человека не приводят к Царству Божьему. Если нет Христа и нет внутреннего поворота, связанного со Христом, то ад в той или иной форме неотвратим, он естественно создается человеком. Сущность спасения – в освобождении от ада, к которому естественно тяготеет тварь"(13). Этот бердяевский – символ веры во Христа перекликается с известным символом веры – Достоевского, который он изложил в письме к Н.Д. Фонвизиной. "Этот символ очень прост, писал Достоевский, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной"(14).
Как христианские персоналисты – Н.А. Бердяев и Н.О. Лосский подобно Ивану Карамазову не могли принять "всеобщую гармонию" в раю, если она основана на гибели и страдании хотя бы одного человека в аду.
"Нравственное сознание началось с Божьего вопроса: "Каин, где брат твой Авель?" Оно кончится другим Божьим вопросом: "Авель, где брат твой Каин?" (15) – писал Бердяев. Подобно Достоевскому, Бердяев исповедовал веру в соборное единство и спасение человечества. "И вместе с тем проливается для меня свет на то, что ад, хотя бы для меня одного, которого в иные минуты я считаю достойным, есть неудача всего творения, есть трещина в Царстве Божьем. И наоборот, писал он, рай для меня возможен, если не будет вечного ада ни для одного живущего и жившего существа. Спасаться в одиночку и в изоляции нельзя. Спасение может быть лишь соборным, всеобщим освобождением от муки". "Мы должны стремиться не только к личному спасению, но и к всеобщему спасению и преображению. Вопрос о том, будут ли все спасены и как наступит Царство Божие, есть последняя тайна, неразрешимая рационально, но мы должны всеми силами нашего духа стремиться к тому, чтобы все были спасены. Спасаться мы должны вместе, миром, соборно, а не в одиночку. И это очень соответствует духу православия, особенно русского"(16).
Другой яркий представитель философии христианского персонализма Н.О. Лосский также как и Н.А. Бердяев считал, что невозможно принять мироздание, в котором лишь немногие спасутся и удостоятся Царства Божия, а множество людей окажутся в вечных адских муках. "Если понять буквально слова "много званных, но мало избранных" (Лука 14,24), если немногие удостоятся Царства Божия, а бесчисленное множество остальных существ обречено на вечные невыносимые страдания в геенне огненной, то мир не заслуживает творения. Мало того, если хотя бы одно существо будет до скончания века подвергаться мучениям, худшим, чем самые страшные пытки, то нельзя было бы понять, каким образом Всеведающий и Всеблагий Бог мог сотворить его. Не могли бы также и мы, а тем более члены Царства признать существование такого мира оправданным" (17), писал Н.О. Лосский.
Опираясь на Священное Писание, где, по его мнению, есть указание на конечное спасение всех существ, Н.О. Лосский утверждал, что "никто и ничто не пропадает в мире, все бессмертно, все существа подлежат воскресению", которые рано или поздно вступят в Царство Божие. "Согласно персонализму, утверждал он, не только человек, но и каждый электрон, каждая молекула, всякое растение и животное, даже каждый листок на дереве есть существо, которому открыта возможность, поднимаясь на более высокие ступени жизни, стать действительно личностью и вступить, наконец, в Царство Божие"(18).
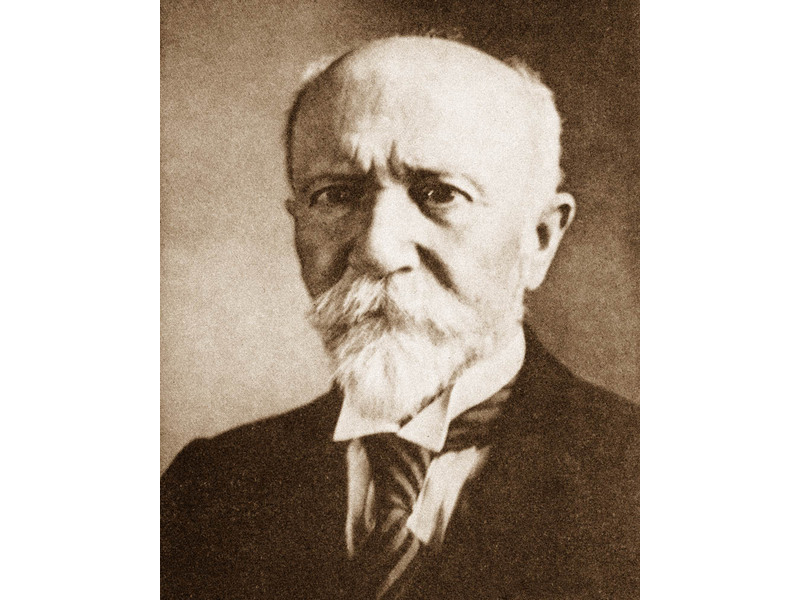
Николай Онуфриевич Лосский
Н.О. Лосский полагал, что область зла ограничена, то есть Бог зла не творил, и оно не существует онтологически, но лишь существует как злая воля. Поэтому он считал, что Бог, который "хочет, чтобы все люди спаслись" (1 Тим. 2,4) знает, как спасти грешника не нарушая его свободы.
"В самом деле, писал Н.О. Лосский, один из великих Отцов Церкви, святитель Григорий Нисский, указывает на то, что область зла ограничена; отсюда он делает вывод, что грешное существо, исчерпав область зла, в конце концов разочаруется в нем и обратится к добру. Поэтому святитель Григорий Нисский убежден, что все падшие существа даже и демоны, достигнут возрождения и восстановления (апокатастасиса) и будут спасены"(19).
Подобно Григорию Нисскому, Н.О. Лосский также верил во всеобщее спасение. В своей книге "Бог и мировое зло", обосновывая персоналистическую теодицею, он писал: "Во всяком случае, тварные существа, начавшие свою жизнь любовью к абсолютному добру, от века живут в Царстве Божием, а падшие существа, пройдя более или менее длинный путь развития и освободившись от зла, также все рано или поздно становятся постепенно членами Царства Божия. В конце концов, все покорится Богу, "да будет Бог все во всем".(20)
Здесь необходимо отметить, что апокатастасис как учение о всеобщем восстановлении впервые было выдвинуто еще в раннем христианстве Оригеном. Он учил, что не только весь человеческий род, но даже падшие ангелы – демоны и дьявол, все будут спасены и восстановлены в первоначальном состоянии до своего падения. Это учение явно недооценивало, не признавало силу зла и игнорировало свободу. Апокатастасис как учение принуждало и предопределяло ко всеобщему спасению тех, кто этого не желал и сопротивлялся воли Божией. Православная Церковь осудила это учение на V Вселенском соборе 553 г., так как оно находилось в явном противоречии с Евангелием. В Евангелии неоднократно говорится о загробной судьбе грешников и праведников: "И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную" (Матф. 25,46).



