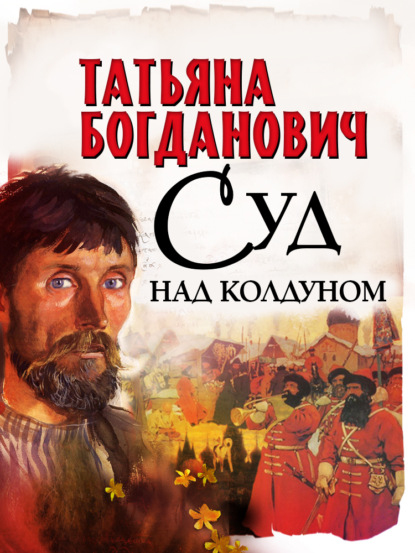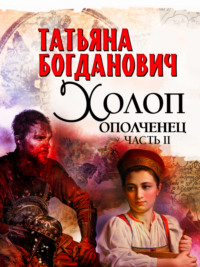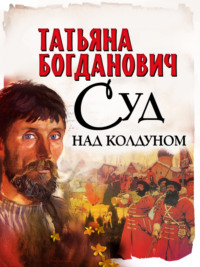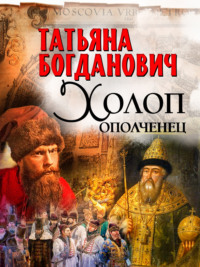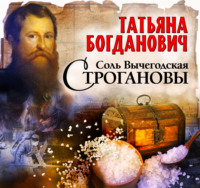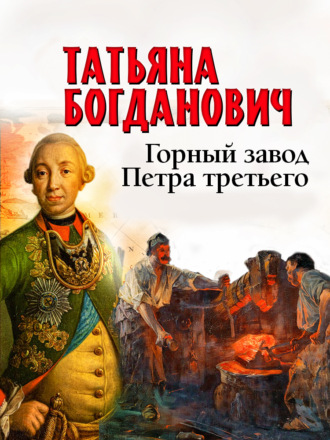
Полная версия
Горный завод Петра третьего
С собой парни еще не брали Захара: мал, говорили. А чего мал? Скоро шестнадцатый год пойдет. Дома, небось, и пахал и боронил с тятькой, да и здесь на той же работе, что и все мужики. А как соберутся парни куда на гулянки, – так Захара гнать. Досадно ведь.
Захар все смотрел в оконце. Вон у леса толпа целая собралась, стоят голова к голове, к середине тискаются.
Захар старался подальше просунуть голову в узкое оконце, но рогатка мешала, – никак он не мог разглядеть, что там в середине – то ли смотрят парни чего-то, то ли слушают кого. Головами качают, оглядываются. Господи! Да ведь тот самый, что в лесу…ну да, конечно, бродяга на деревяшке. Говорит им чего-то. Показывает будто что-то белое, вроде как бумага. Ишь, как слушают! И вдруг, точно ветром всех сдунуло, рассыпались кто куда. И бродяги не видать, как сквозь землю провалился. Захар поглядел в другую сторону – Ковригин ковыляет. Из-за него, верно. Не любят рыжего дьявола. Захар поглядел на лес. Тени длинные стали, – значит, вечер скоро. Как бы не опоздать.
Он кубарем скатился с лестницы, выскочил из сторожки и, ни на кого не глядя, держась обеими руками за рогульки, со всех ног помчался опять через пустырь к лесу. Только в лесу дух перевел. Благодать в лесу! Сосной пахнет. Тихо так. Только птицы чирикают. Грибов теперь, наверно, после дождей высыпало! Да не до того было Захару. Бежал, торопился, не опоздать бы.
Добежал до полянки – никого. Сел на пенек и стал ждать. Дятел один стучит, а людей – никого. Долго так сидел Захар, слушал. Солнце как раз до той вершины дошло, что тот бродяга показывал. Заходить стало. Зашло. Деревья так и выступили на краю горы. Долго ждал Захар. Темно в лесу, тихо. Птицы смолкли. Сыростью запахло. Захар встал, махнул рукой и побрел назад, шаркая ногами. К заводу пришел, когда уже ворота запирали.
– Чего тебя в ночь-полночь носит? – проворчал сторож.
Захар не ответил и скорей прошмыгнул к Акимовой избе. В окне свет еще был, – стало быть, не спит Аким. Захар поднялся на крылечко, вошел в сени – голоса! Кто это у него?
Захар прошел тихонько сени и заглянул в дверную щелку! Аким стоит у стола, а перед ним – тот, с деревяшкой. «Пришел-таки, – обрадовался Захар. – И как прознал, что я тут живу? Дошлый!»
Он остановился послушать, о чем у них разговор идет.
Аким стоял посреди избы понурившись, волосы на лицо свесились, – верно, не рад гостю.
– Да уж коли разыскал, – говорил Аким, – так, видно, не за добром.
«Знакомый, стало быть», – удивился Захар.
– Для милого дружка семь верст не околица, – нараспев протянул гость.
– Дружба-то наша! Чорт одной веревочкой связал – вся и дружба, – нехотя проговорил Аким.
– Не забыл веревочку, – усмехнулся тот. – Звенит-звенит, а душу не веселит. Тяжеленька. Ну а без меня бы ввек не распилил.
– Говори уж прямо, зачем пришел? – сурово спросил Аким. Довести, что ли, надумал? Мне все одно. И тут не лучше. Та же каторга.
– А хотел бы вольным стать?
– Опять бежать сманиваешь? – Аким покачал головой. – Ну нет. Зря и в тот раз послушал тебя.
– Каторги жалеешь?
– Кабы каторгу отбыл – вольным бы стал, – сказал Аким.
– И теперь станешь. Воля-то сама к вам идет.
– Ты, что ли, мне волю дашь?
– Зачем я? Царь.
– Какой такой царь? – удивился Аким. – Царица у нас – не царь. Да от нее воли не жди. Она, вон, и вольных-то норовит похолопить. Всех нас, у кого бумаг не было, за заводами велела записать на вечные времена.
– Вашей Катеринке не долго царствовать. Муж-то ей руки укоротит. В монастырь ее – грехи замаливать.
Аким беспокойно оглянулся.
– Да ты чего? Ума решился? Какое плетешь!
– А что? Довести хочешь? Я, брат, скорый. Даром что на деревяшке.
Бродяга быстро обернулся к порогу. Вот сейчас откроет дверь и шагнет в сени. Захар кинулся в дальний угол сеней и забился за бочку.
Но дверь не отворилась. Захар посидел немного за бочкой, но ему любопытно было послушать, что они еще скажут, и он опять прокрался к щели.
Аким, весь белый, стоял перед бродягой и держал его за плечо.
– Врешь ты, Иван, – говорил он, дергая бродягу за рукав. – Как это может статься? Ведь помер же он, царь Петр Федорович? В церкви читали…
– Они начитают, долгогривые, – сказал бродяга.
– Так ведь похоронили ж его. Жена его, Катерина, царицей стала. Да скажи ты толком.
– A ты слушай. Чего всполошился? Дай хоть сесть-то. Одна ведь у меня нога казенная-то, ну, а другая своя, отдыху просит.
Бродяга сел на лавку и вытянул обе ноги.
– Говоришь – помер. А я его неделю назад сам видел, в Берде, под Оренбургом, – с важностью сказал он. – Он самый – царь, Петр Федорович.
– Да разве ты государя-то, Петра Федоровича, знал?
–Как мне не знать. Я в тот год, как он на царство сел, в Раненбауме [Ораниенбаум – царская усадьба под Петербургом, где часто жил Петр III] у кума, у кабатчика, хоронился. А царь-то Петр Федорович там во дворце почасту живал. Простой был. Трубку курил. Ну и выпивал тоже с компанией. Раз я там у решетки притаился, гляжу – царь-то Петр Федорович из дворца в сад бежит и фрелину за ручку тащит, – толстомордая такая, Воронцова, кум сказывал. А за ним – не то русские, не то немцы, с косами, мундиры узкие, красные, синие, желтые; хохочут все, и ну по саду бегать, гоняться, и один другого в зад коленкой. И Петр Федорович тоже хохочет. Как тебя, видел.
Аким промолчал и отвел глаза.
– Ну, а тут, под Оренбургом? – спросил он немного погодя.
– Ну, а тут иная статья, – проговорил бродяга и подмигнул Акиму – знай наших! – Как пустил я слушок, что Петра Федоровича, как на царстве он сидел, самолично знал, так казаки ко мне. Опознай да опознай. Ну что ж. С моим удовольствием. Государю самому доложили. Вышел он из палатки, ну, конечно, кафтан на нем золотой, и прямо ко мне: «Что ж, добрый человек, узнал ли ты меня?» Я ему, конечно, в ноги и говорю: «Как не узнать, ваше величество!» А потом обернулся к казакам. «Не сумлевайтесь, – говорю, – господа казаки, он подлинный государь Петр Федорович. Я доподлинно его знаю. В Раненбауме не единожды видал». Тут веселье пошло. Бочку вина выкатили. Всем чарки роздали. А государь поднял чарку и сказал: «Здравствуй, я, великий государь!»
Аким слушал бродягу, точно в рот ему хотел вскочить. Лицо у него стало совсем белое, и он часто дышал.
– Да неужто правда? – вскрикнул он, когда бродяга замолчал. – И, говоришь, волю он сулит всему народу?
– Всем, – повторил тот. – И крестьянам, и заводским, и башкирцам тоже. Всем чтобы вольными быть. И землей всех наделить. И я, стало быть, землицу получу.
Аким поднялся, стал перед бродягой, загородив его от Захара, и заговорил медленно, слово за слово:
– Воля! Можешь ты понимать, какое это слово? Он замолчал. – Да правда ли то всё? – повторил он, точно про себя. – Слушай, Иван. Вон икона, гляди. Поклянись богом, что ты не врал.
– Чего мне врать? – усмехнулся бродяга. – Сивая кобыла врет.
Аким сердито взглянул на него и сел на лавку, свесив голову.
– Ну, чего ты, дурень? – заговорил бродяга, поглядев на него. – Ну, хочешь, сымай икону, присягу приму. Вот те Христос, все как перед истинным.
Он встал и перекрестился на образ. Потом развязал кошель, вынул бумагу и сказал:
– Вот собственный государя Петра Федоровича указ. Почитай, чего сам пишет. Аким взял бумагу, развернул, внимательно оглядел со всех сторон, посмотрел подпись, печать, разложил на столе, переменил лучину, сел и начал читать:
– «Я во свете всему войску и народам учрежденны велики государь, явившейся из тайного места, прощающий народ и животных в винах, Делатель благодеяний, сладкоязычный, милостивый, мяккосердечный российский царь император Петр Федорович во всем свете волны, в усердии чисты, и разного звания народов самодержатель и прочая, и прочая, и прочая.
За нужное нашел я желающим меня показать и для отворения на сих днях пространно милостивой моей двери послать нарочного…»
– Это я и есть, – перебил его бродяга, стукнув в пол деревяшкой. – Читай.
– «И башкирской области старшинам, деревенским старикам и всем малым и большим так, как гостинец, посылаю мои поздравления.
Без всякого сумнения идите и, как прежде сего ваши отцы и деды, моим отцам и дедам же служа, выходили против злодеев в походы, проливали кровь, а с приятелями были приятели, так и вы ко мне верно, душевно и усердно, бессумненно к моему светлому лицу и сладко-язычному вашему государю для походу без измены и пременения сердцов и без криводуши в подданство идите…»
Аким вдруг остановился и строго посмотрел на бродягу.
– Ну, Иван, – сказал он, и голос его дрогнул. – Коли соврал ты, век тебе такой грех не простится. Ведь что он пишет-то!..
– «Ныне я вас даже до последка землями, водами, лесами, жительствами, травами, реками, рыбами, хлебами, законами, пашнями, телами, Денежным жалованьем, свинцом и порохом, как бы желали, так пожаловал по жизнь вашу». Ты послушай только: «всех вас пребывающих на свете, – он повысил голос, освобождаю и даю волю детям вашим и внучатам вечно».
Аким встал и три раза перекрестился на образ. Он точно вырос, и лицо у него посветлело.
– Волю дает. Всем! Всю жизнь дожидался я. А дождаться не чаял. Скоро ли теперь?
– А вот как приклонятся все. Завистцев как всех покорит, – сказал бродяга. – Каждый день к нему приклоняются казаки, башкирцы тоже. Ну, киргизы там. И русского народа, конечно. Там у него в Берде всякого жита по лопате.
– Как же сейчас-то? На Москву, что ли, пойдет государь? – спросил Аким.
– Само собой, на Москву. А только наперед всем приклониться велено. Меня вот сюда прислал полковник евоный, Хлопуша. По заводам он послан. А я чтоб наперед разузнал, как тут заводские. Я было им нынче говорил, хотел указ прочитать, да грамоте никто не горазд. Вот к тебе и послали. Ты им указ-то завтра почитай.
Аким кивнул головой.
– Ну, я пойду, – сказал бродяга. – Один тут меня звал. Знакомый тоже.
Захар проворно отскочил от двери и, забившись в угол, смотрел, как бродяга проковылял через сени и стал спускаться с крыльца, постукивая по ступенькам деревяшкой. Только тогда Захар отворил дверь и тихонько вошел в избу.
Аким и не посмотрел на него. Он не отрывал глаз от бумаги и шевелил губами.
Глава пятая
Всю ночь Аким не спал. Ляжет на лавку и опять встанет, пощупает лист. Тут он, за пазухой. И воля в нем. Все вольными станут. И он, Аким, тоже, стало быть. Совсем уж он надежду потерял. Думал – так заводским холопом и помирать будет. А ведь родился вольным он. Да уж такая доля ему выпала – из одной беды в другую всё попадал. Смолоду незадачливый он был. И вспоминать про свою жизнь не любил он и не рассказывал никому.
На заводе никто не знал, что и фамилия-то Акима была не Наборщиков, а Камбаров. Наборщиковым он назвался, когда бежал с этапа и пришел наниматься на завод. Тогда рабочие нужны были на уральских заводах, брали всех, кто хотел работать, не спрашивали бумаг. А работать Аким смолоду умел, хоть и не заводскую работу. Но он ко всему делу приспособиться мог, потому что с детства научился грамоте и к работе привык. Он был сын бедного дьячка из города Каргополя. Отец отпустил его в Петербург в ученики наборного художества в типографию при Академии наук. Но там Акиму пришлось так круто, что он не вытерпел и убежал на корабле за границу. Попал он в Гамбург и там поступил тоже в типографию. Но у немцев ученикам приходилось тогда не легче, чем в России.
И книг ему в немецкой типографии так же мало попадалось, как и в Петербурге. Ведь у наборщика какая работа: сунут ему лист – читай, что там написано, и набирай печатными буквами. А какая из этого книга выйдет, – он и не знает.
Мальчишкой когда он был, набирал он кусочек из одной книги про разные земли. Очень ему интересно было, что там про Японию сказано, а книгу эту он так никогда и не смог достать.
Ну, а там, в Гамбурге, попалась ему раз книга Лютера. Про этого Лютера ему товарищи рассказывали, задолго до того он поднял бунт против самого главного во всей Европе церковного начальника – папой они его называют. Боялись его все, даже короли: папа мог каждого от церкви отлучить и навеки проклясть. А Лютер этот не побоялся, восстал против него, потому что тот несправедливо поступал, и, сколько его папа ни проклинал, Лютер на это не смотрел. И добрая половина немцев за ним пошла. И с тех пор у них другая церковь, и зовут ее: лютеранская.
Ну так вот, дали ему раз набирать с печатного страницу из одной книги Лютера. И как раз набирал он такие слова:
«Diesen Aufruhr für die Freiheit besichtigen wollen Ist darum nichts anderes wie Gottes Wort beseitigen und verbieten wollen». [«Усмирять это восстание за свободу – всё равно что запрещать слово божие» (нем.)]
Долго он тогда над этим думал и к своей жизни применял. Он ведь тоже восстал за свою свободу и убежал. Только не повезло ему – опять в кабалу попал.
Очень его та книга проняла. Прямо точно друга нашел. С малых лет не мог он терпеть, что так не по правде люди живут, мучают всякого, кто послабей. С того он и в бега пустился. А тут вдруг Лютер этот говорит, что так и надо, должен человек за свободу свою восставать [Аким по-своему понял слова Лютера. Лютер говорил только о свободе веры. Он никогда не призывал к восстанию против господ].
Дальше-то не очень ему понятно было, ну, да это не важно. Самое-то важное он понял. Главное, значит, не в том, что работать тяжело. Главное, что должен человек вольным быть, а коль его в кабалу берут, должен восставать, как и сам тот Лютер.
Тут он уж больше и ждать не стал: подговорил своего товарища Мартына и сбежал с ним на корабле из Гамбурга. И книжечку ту купил и с собой забрал, благо маленькая она, можно в карман сунуть.
Приехал в Петербург, а там мастер его прежний, Розе, дочку свою Труду замуж выдал тоже за немца мастера. Очень это Акима ушибло. Любил он Труду сильно. А в Гамбурге еще больше вспоминал ее. Одна она его жалела.
Как он узнал про то, так и беречься не стал. Его схватили как бродягу и сослали в Сибирь. А на этапе он повстречался с Иваном, и тот уговорил Акима вместе бежать. Бежать-то они бежали, и на завод Акима приняли, но накопить денег и пробраться на родину, как он мечтал, ему так и не удалось. Императрица Екатерина ІІ издала указ, по которому все беглые, нанявшиеся на заводы, прикреплялись навеки к этим заводам как крепостные.
Так и стал Аким из вольных людей холопом.
Стало быть, в третий раз опять в кабалу попал. И последняя кабала вышла горше всех.
Стал он думать, – чего это ему так не везет? Да ведь и то сказать, не он один. Все так. Словно в каторге все люди живут. И ни у кого-то и в мыслях нет, чтобы от этой неволи избавиться. Точно так и надо.
Совсем затосковал Аким. Только книжкой своей и утешался. Почитает – и точно легче на душе станет. На заводе грамотных никого не было, – видели, что за книгой сидит Аким, а какая книга, – никто и не знал.
А он все думал, как бы это за волю восстать, и снова перечитывал: «Усмирять это восстание за свободу – все равно что запрещать слово божие». Все равно, стало быть, что против бога пойти. Значит, только бы восстание поднять. Да как его поднять одному? Запорют – и все.
И вдруг теперь этот бродяга… Вот оно, восстание-то! Это не то, что он – сбежал да и все. Это уж настоящее восстание. Про такое как раз и Лютер, верно, говорит. За свободу – за волю то есть. Против такого восстания идти – все равно, что против бога. Точно знал наперед Лютер, что тут, на русской земле, такое восстание поднимется. И поднял его сам истинный царь против своей неверной жены и против вельмож, которые весь народ в неволе держали.
Голова у Акима чуть не лопнула. Столько всяких дум в ней забродило. Всю ночь глаз он не сомкнул, только под утро немного забылся.
И вдруг – бом, бом, бом! – над самым ухом. Вскочил. Звонят точно на пожар. На работу разве так звонят? Да и рано. Выглянул в окошко дыму не видно. Подвязал скорее пояс, вышел во двор, зачерпнул ковшом из бочки, плеснул раз-другой на лицо, обтерся подолом рубашки и вернулся назад – шапку взять.
Захар на лавке приладился кое-как между двумя рогульками, под изголовье армяк засунул, чтоб не западала голова, и спал себе.
«Поспеет, – подумал Аким, – на работу-то еще рано».
Он взял шапку, краюху хлеба и пошел.
Из всех изб выскакивали рабочие, поглядывали вверх – не видать ли дыму – и шагали к конторе.
Рабочий поселок растянулся почти от самой заводской стены и до канала, пересекавшего весь завод. Канал-то, по правде сказать, был не канал, а речка, по имени Тора; вытекала она из пруда выше завода и впадала верст за двенадцать от завода в реку Белую. У самой заводской стены была устроена плотина, так что речка в целый пруд разлилась, а дальше самую речку, ту ее часть, что протекала через заводскую землю, выпрямили и забрали в деревянные берега, – вот она и стала здесь больше похожа не на реку, а на канал.
Через канал были перекинуты мостики, так как все заводские мастерские и контора и управительская усадьба были на одном берегу Торы, а рабочий поселок на другом.
В это утро перед мостиком из поселка сгрудилась целая толпа рабочих. Сразу всем не перейти.
Аким тоже остановился. Хотел было показать рабочим царский указ, даже руку сунул, за пазуху, да отдумал – злые все со сна, ругаются.
По понедельникам и всегда неохота идти на работу, а сегодня еще колокол раньше времени ударил. Стало быть, управителю чего-нибудь понадобилось. А от него хорошего не жди.
Перед конторкой и совсем не протолкаться было, хотя конторское крыльцо выходило на длинную просторную площадь, окруженную заводскими мастерскими, сараями и амбарами.
Сегодня на площадь собрались не одни заводские. Крестьян-угольщиков тоже пригнали сюда. В другие дни они не заходили на завод, а с утра прямо шли в лес на просеку.
На конторском крыльце стоял управитель и рядом с ним старший приказчик Беспалов.
Аким этого Беспалова больше всех приказчиков не любил, хотя он не кричал и не ругался, как Ковригин. Очень уж скверная рожа у него была. С одной стороны посмотришь – глаз ласковый, борода гладкая. А с другой – не приведи бог: глаз под нос ушел, щека сизая, рот перекошенный и с виска до бороды точно шнурок прошит. Говорили – польский пан на войне так его полоснул.
Колокол на столбе перед крыльцом конторы замолчал. Управитель вышел вперед и руку поднял. Важный. Лицо бритое, гладкое, розовое, точь-в-точь поросенок-сосунок. Волосы длинные, буклями.
Все затихли.
–Работные люди! От нашего хозяина Якова Борисовича приказ вам,– заговорил он не очень громко, ровным, чужим каким-то голосом. Но на площади стало так тихо, что каждое слово было слышно.– Работать вам не как как ране, а со всем усердием, не щадя живота, от утренней зари до вечерной. И на заводе иметь всякое смотренье и осторожность. Ворота заводские иметь день и ночь на запре. А которые шатающие люди, кои сеют в народе вредные плевелы, тех на завод не пускать, а ловить их и искоренять и с пристрастием допрашивать. А работным людям с завода никуда не отлучаться. А кто явится виновным – штраф взыщем, а наипаче батожьем наказывать…
Рабочие хмурились, толкали друг друга локтями, переглядывались. В задних рядах ворчали. Кое-где раздавались негромкие выкрики:
– С чего ж с завода-то не пускать? Хуже каторги! На запоре.
– Молчать! – крикнул управитель. – Для вашего же то береженья.
– Берег волк овцу – один хвост остался, – пропел тонкий смешливый голос.
Управитель так и вскинулся.
– Эт-то кто? – закричал он. – Сыскать тотчас! Розог ему! Голову обрить с работы долой!
Приказчики заметались в толпе, разыскивая виноватого. Рабочие топтались на месте, перешептывались.
Аким испуганно оглядывался – человека с деревяшкой нигде не видно было.
Управитель нахмурился, о чем-то поговорил с Беспаловым и махнул рукой.
– Сказываю, для вашего же береженья то. Известно ноне сделалось, что под Оренбургом многие шайки злодейской сволочи скопляются и разъезжают оттуда и делают разные разглашения под именем покойного императора Петра Третьего. А сей, именующий себя императором, не кто иной есть, как государственный злодей и изверг естества, беглый казак Емелька Пугачев. И сей гнусный варвар, Емелька, пускает в народ вредные письма и возмутительные листы наподобие якобы царских указов, в коих обманно и вполне облыжно возвещает разные немысленные вольности. Крепостным людям волю сулит, чему никак быть невозможно, а также землю и прочее неподобное. А куда явится, всяческие разоренья чинит, не меньше и смертные убийства и грабежи. На поимку сего государственного злодея и вора, Емельки Пугачева, государыня императрица многие войска послала, чтобы его изловить и лютой смертью казнить. И на наш горный завод для береженья от злодеев тоже отряд в скорости прийти должен. А кои злодейских прельщений слушать станут, то все будут нещадно казнены и повешены. Поняли?
Рабочие угрюмо молчали.
– Семен Ананьевич, – заговорил сладким голосом старший приказчик.
Аким поднял голову. Сизое лицо точно подмигивало рабочим. Гладкой стороной Беспалов повернулся к управителю.
– Дозвольте мне, Семен Ананьевич, прочитать им письмо. От богульшанского батюшки вчерашний день получил. Кум он мне. Про те же богомерзкие злодеяния он пишет.
Управитель молча кивнул.
Беспалов вынул из-за пазухи листок бумаги, развернул и стал читать, с трудом разбирая мелкий почерк.
«Достолюбезный кум, Петр Ефимович, во первых строках приношу я вам… нижайшую благодарность… за гусыню, коя…»
По толпе прошел смешок.
Управитель оглянулся.
– Ты про дело читай, Петр, – хмуро сказал он.
– Сейчас, сейчас я, – заторопился Беспалов:
«… и матушка…» – Вот оно: «а что слух пошел, будто на Яике император Петр III объявился, то это одни лишь смешного достойные бредни, чему никоим образом статься не можно, да и помыслить ужасно, чтобы покойному императору Петру III прежде чаемого общего воскрешения из мертвых одному воскреснуть…» – Слышите, ребята, – обратился Беспалов к рабочим, – что говорит духовный отец? «А сия гнусная чучела, назвавшись таким ужасным по России именем, наподобие якобы воскрес из мертвых…»
– Попы отпели, а кого – не доглядели, – вдруг прервал его прежний смешливый голос.
– Опять! – крикнул управитель. – Сыскать прельстителя!.. Все ворота на запор. Поймать и ко мне доставить для строжайшего допросу. Пушки на башнях осмотреть. Кто ослушным явится, прежестокой поркой пороть. А теперь все на работу ступайте!
Рабочие медленно расходились по мастерским.
Глава шестая
Раньше Аким, наверно, испугался бы и еще больше притих, чтобы не попасть на глаза приказчику, а теперь, после вчерашнего, в нем поднялась злоба.
«Стало быть, правда, – думал он, – царь-то объявился. Управитель-то, ведомо, злится. Емелькой царя ругает. Видел же его Иван, говорит – Петр Федорович, сам…»
– Ты чего на людей натыкаешься, дьячок? Чуть с ног не сбил.
Аким поднял голову. Перед ним стоял громадный черноволосый вертельщик, по прозвищу Цыган.
– Слыхал управителя-то, Ферапонт? – заговорил Аким непривычно громко и сердито. – Ишь, что выдумал – беглый казак! Вот погоди, придет Петр Федорович, он ему покажет, как нас со скотиной равнять. Всем волю даст.
– Какой Петр? Это Емелька-то? Держи карман. Бродяга! Вздернут еще за него. Ну, и тут тоже работать не рука. Ишь, пес гладкий, управитель-то. Нет, я погляжу да к Демидову на Кыштымский завод подамся. Сманивают, полсотни сулят. А тебе бы в причетники проситься, – усмехнулся Цыган. – Как раз по тебе.
Аким ничего не ответил. И раньше он молчал, когда его дразнили, а теперь и не слышал вовсе.
Он вошел в свою мастерскую. После праздника в ней всегда холод был, точно в погребе. Целый день горн не топился. И сегодня как вошел, так его сразу нежилым духом обдало. Чисто погреб: окон нет, темно, свет только через широкие двери проходит. Пол земляной, щербатый.
В земле, перед печкой, в опоках еще стыли медные шандалы. Аким велел подручному Федьке вынуть их и отнести в отделочную мастерскую, а потом растоплять горн.
Только что Федька начал подкидывать дрова, – штыковый горн топился не углем, а сухими дровами, – как из амбара на тачке привезли круги чистой меди. За гремевшей тачкой шел немец-шихтмейстер Мюллер. Медь выдавал всегда сам Беспалов на руки шихтмейстеру, под его отчет. Чистая медь – дорогой товар.
Шихтмейстер сам смотрел, как закладывали медь в горн и затопляли печь.
Дрова разгорелись хорошо. Жарко стало.
В других мастерских тоже пошла работа. Шумели мельничные колеса, стучали кузнечные молоты, гремело, лязгало, грохало, и Акиму стало уже казаться, что все это про волю, про Петра Федоровича ему приснилось, и работать ему век у этого проклятого горна.