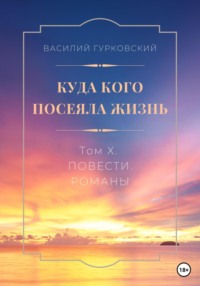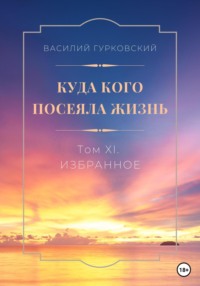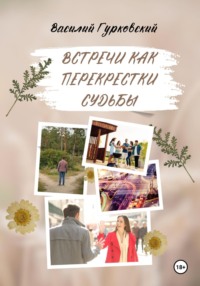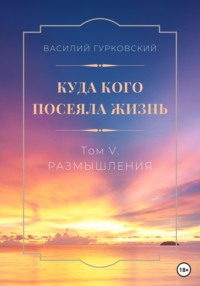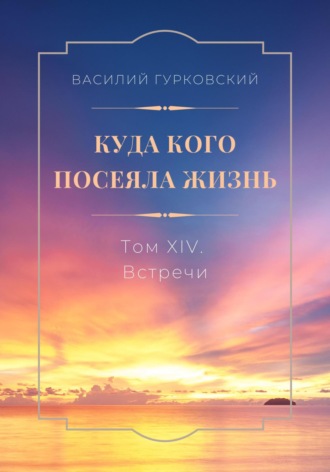
Полная версия
Куда кого посеяла жизнь. Том 14. Встречи
Да, здесь рядом – чистое море, длиннющая песчаная коса –пляж, но…море есть и в других местах, а такого лимана еще поискать надо….
Главное, накопленное веками богатство лимана – донная лечебная грязь, покрывающая толстым слоем его дно. Санатории, расположенные по берегу лимана, качают эту грязь прямо от места её залегания, очищают, прогревают и используют для оздоровления и профилактики. Основное направление почти всех санаториев в Сергеевке –грязелечение.
Мне тогда повезло. Первый раз в жизни попал в санаторий и сразу познакомился с таким серьезным видом оздоровления, как Грязелечение. Настоящее. Позже, в разные годы и в разных местах, мне приходилось не раз видеть, как проходило там подобное лечение, но такого, как в Сергеевке –больше видеть не пришлось.
Есть два основных направления такого вида лечения: Грязелечение и Грязное лечение:
Первое направление, Грязелечение, как в той же Сергеевке: – ты, абсолютно раздетый, ложишься на покрытую плотной простыней кушетку, тебя санитар, из гофрированного шланга большого диаметра, буквально «обваливает» всего (кроме лица), несколькими ведрами черной, с антрацитовым блеском, приятно-теплой грязи, укутывает сверху тканью и оставляет отдыхать положенное по назначению врача, время. В приятном блаженстве расслабляешься, а – потом смываешь грязь в душе.
При этом, черная грязевая масса, принимается твоим организмом и сознанием, именно, как что-то приятное и полезное. Само понятие «грязь» здесь не ассоциируется с чем-то «грязным». Это на самом деле ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ.
Второе направление , мне и такое приходилось видеть и даже проходить –это там, где нет «своей» грязи, где она привозная, как правило многолетней давности. Это «лечение» обычно активно рекламируют, отпускают по записи, не бесплатно, а потом вручают ту «грязь» больным, в коробочках от леденцовых конфет, для нанесения на больное место. В тех «грязях», кроме прожаренного песка, ничего полезного уже давно не присутствует. А люди верят и толпятся в очередях за этим «грязным лечением».
Я сделал эту вставку вовсе не для рекламы полезности места, куда я тогда попал. Это как бы -Фон. Суть данного материала сосем в другом.
Чтобы закончить вступление к рассказу, добавлю, что в этом благословленном месте, каким и тогда, и сегодня является курорт Сергеевка, где есть очень многое- море, пляжи, лечебная грязь, лечебная вода (РАПА) и ценная минеральная вода, не хватает (и тогда и сегодня) Главного – Природного Тепла. Даже не столь важна проблема пресной воды, её можно было бы взять из Днестровского лимана. А вот Тепло, природное, вернее -его недостаточность –снимает минимум половину всех прелестей этого места.
Признаюсь читателю, что для меня, как после выяснилось, посещение этого курорта, осталось в памяти совсем по другому поводу.
Да, я проходил все назначенные врачами процедуры, включая грязелечение и ванны из лиманной рапы, но, после моей беспокойной работы, в санаторной тиши мне было довольно скучно.
Во- первых санаторий «Виктория (Победа)», был в то время в Сергеевке, как бы базовым для лечения и отдыха ветеранов Великой отечественной войны, соответствующим был и контингент отдыхающих. Он (санаторий) был в то время на особом счету и только в нем, в период обеда, можно было при желании, получить стакан белого или красного вина, естественно бесплатно. В других санаториях тогда такого не было. Наш все считали –«ветеранским». То есть- особым.
Привыкший все оценивать и анализировать, могу с уверенностью сказать, что, наверное, только в нашей «сверх гуманной» стране, в таких, специализированных (любых, но льготных) специальных, тем более лечебных заведениях, образованных неважно для каких специфических групп, будь то ветераны войны или труда, воины-афганцы, ликвидаторы последствий различных бедствий и т.п., минимум треть, а то и половина , пользующихся предоставленными какими-то льготами, никакого отношения к тому или иному конкретному направлению не имели, но –зато имели удостоверения или свидетельства о своей причастности ….
Так было и в санатории, куда я приехал. Но меня это мало интересовало. Санаторий недалеко от берега лимана. Море –через лиман, где-то более километра. Летом- говорят, что отдыхающих возят через лиман на катерах . Я приехал в мае, вода в море, как в холодильнике, купаются единицы закаленных любителей плавания, в основном –из других санаториев.
Государство позаботилось о курортной зоне и, напротив Сергеевки, был построен не широкий, но прочный железобетонный мост, связавший санаторную зону с пляжем. Мост использовался и для передвижения к морю, и для прогулок отдыхающих. По нему могли проезжать и легковые машины, но в те времена, машин я там не видел. Мост был приподнят над поверхностью воды настолько, чтобы под ним свободно проходили пассажирские катера. Приятное место, но меня привлекло на мосту другое: -несколько человек прямо с моста –ловили рыбу. Ловились в основном бычки разных размеров, другой рыбы я на лимане не видел.
У меня были заготовленные из дому различные рыболовные снасти. Я очень любил в детстве ловить рыбу на удочку, нравился сам процесс. Потом -был перерыв в несколько десятков лет, не было возможности рыбачить на удочку. Много лет жил в Казахстане, там «рыбачили» иногда сетями или бреднем, а здесь –пожалуйста –лиман, мост, масса времени…. Решил заняться рыбной ловлей, чисто в порядке отдыха.
На второй день пребывания, после процедур и обеда, собрал свои снасти, насобирал по дну лимана кулек ракушек и отправился на середину моста, как на самое глубокое место. Вообще-то глубина лимана в среднем немного больше метра, а посредине- около двух.
Бычок лучше всего «идет» на мякоть морской ракушки. Я понял, что никаких удилищ здесь не надо. Одел леску петлей на руку, не стал удить через перила, неудобно, поэтому –пропустил удочку в одно из сливных отверстий для воды, которые шли по обеим сторонам моста, вымерял длину лески, с таким расчетом, чтобы грузило легло на дно, при натянутой леске, затем- наколол на крючок наживку и опустил удочку на дно. Буквально через несколько секунд, леска затрепетала в руке, и я вытащил первого бычка, среднего размера. Чтобы ускорить процесс, приладил проволочную распорку и добавил еще один крючок. Закинул удочку снова –опять через несколько секунд вытащил уже два бычка, на обоих крючках. Понравилось….
Такой рыбалки я еще не видел. Вода в лимане чистая, дно под мостом –тоже чистое, песчаное. С моста смотришь- все видно, как на экране: -только на дно ляжет грузило и планка с крючками, тут же к ним устремляется стайка бычков и буквально выхватывают наживку друг у друга….Очень наглядно и очень интересно наблюдать за всем этим, тем более –беспрерывно вытаскивать пойманных рыбешек. Бычки – рыба хищная, азартная и безоглядная. Для неё главное- успеть выхватить лакомство….
И, наконец, мы подходим к сути нашего материала…
Где-то на третий день, после обеда, я, как уже опытный «рыбак», занял свое постоянное место и приготовился к «охоте». За предыдущих пару дней, на балконе комнаты, где я жил, сам (не сезон), на взятой с дому медной проволоке, уже вялились около сотни очищенных подсоленных бычков.
Прохожих по мосту , после обеда, было мало, большинство отдыхающих разошлись по своим палатам, поэтому я не был объектом внимания, когда чуть ли не каждый проходящий мимо тебя любопытный, обязательно остановится возле тебя, наблюдая за твоими действиями и, в лучшем случае, просто будет стоять и смотреть, а в худшем- начнет давать тебе советы или что-то комментировать .
Когда ты находишься в полусогнутом состоянии и в определенном нервном напряжении, это, естественно, как-то напрягает. Я старался не обращать внимания на такие случайности, насколько это было возможно.
В тот день случилось необычное, причем на моих глазах, да еще, как оказалось- и при свидетелях! В течении минуты –на два моих крючка поймались два бычка, тут же их схватили еще два бычка побольше, а когда я уже приготовился их выдергивать, подскочили две довольно больших (для бычков) черных рыбешки и заглотали наполовину и эту пару своих собратьев! Шесть бычков за один заброс! Такого у меня еще никогда не было!
«Так можно всю рыбу из лимана выловить!»– раздался чей-то голос сзади меня. Я поднял голову и оглянулся- надо мной стоял, как мне показалось, очень высокий, немолодой уже человек и добродушно улыбался. Я, находясь в таком возбужденном состоянии, хотел что-то резко ответить, но – осекся. Во-первых –это было не в моих правилах, а во вторых – я видел, что человек гораздо старше меня и улыбка у него добрая….Такой была у нас первая встреча.
Из вежливости, я повернулся к нему лицом, выпрямился и продолжал свою «работу», раз за разом, вытаскивая из сливного отверстия пойманных рыбешек. Подошедший мужчина просто стоял рядом и, с интересом наблюдал за моими действиями. Молча. Ничего необычного в этом не было. На всем протяжении моста, именно в то время, ни любителей прогулок, ни рыбаков- не наблюдалось, поэтому я и привлек внимание этого незнакомца.
Откуда же мне было знать, что с этого дня, мы с ним станем добрыми товарищами на полтора десятка будущих лет!
Ну, а в тот день, он, вдоволь налюбовавшись прелестями такой простой, открытой и результативной рыбалки, попросил меня дать и ему попробовать поудить таким образом.
Я отдал ему свою «удочку», оставил большой полиэтиленовый пакет для рыбы, а сам занялся изготовлением новой удочки, для него. Пока он успел поймать с десяток бычков – удочка была готова, я её тут же «опробовал» и прямо с двумя первыми пойманными бычками- передал ему.
Мужчина занял соседнее с моим сливное отверстие и ,через него, стал удить самостоятельно, причем было видно, что ему это нравится.
Перед этим –мы сделали паузу и познакомились, чтобы было удобно обращаться друг к другу. Я назвал себя, сказал, что я из Слободзеи, он назвался –Николаем Гавриловичем, из Тирасполя. Ну, а так как город Тирасполь, находится внутри нашего, Слободзейского района, то выходит, что мы с ним –земляки. Это стало нашим первым соединительным звеном для будущих взаимоотношений.
Глядя на его явно «восточное» лицо, я вначале подумал, что он был моим земляком еще и по Казахстану, но, когда спросил его об этом –оказалось, что он родился и вырос в Якутии и по национальности –самый настоящий якут. Чистое ,белое, благоприятного вида лицо, белые (седые) волосы, и только восточный разрез глаз, выдавали в нем человека не русского. Во всем остальном- он выглядел интеллигентным, вежливым, разумным и порядочным человеком.
За мою жизнь, много прошло перед глазами людей разных возрастов и национальностей, разных уровней по положению и интеллекту, способностям и возможностям, но память выделяет Николая Гавриловича Золотарева (это о нем идет речь), в отдельную, высшую, в моем понимании, категорию человеческого достоинства.
В тот день, когда мы познакомились, у нас не было каких-то «выяснительных» разговоров. Мы просто были заняты рыбной ловлей, в нескольких метрах друг от друга, говорить было неудобно, да и все внимание было направлено на сам процесс ловли рыбы.
Когда несли сумки с пойманной рыбой в санаторий, перекинулись несколькими фразами, касающимися, в первую очередь наших планов на завтрашний день.
Попутно я узнал, что у него срок санаторной путевки, заканчивается через десять дней. Все эти десять дней, мы, после процедур и обеда – занимались рыбной ловлей, а после ужина – гуляли по мосту и беседовали на разные темы. У нас уже было, что рассказать друг другу.
Николай Гаврилович был на 13 лет старше моего отца, застал еще царское время, пережил Гражданскую войну, период становления Советской власти в Якутии, долгое время служил в пограничных войсках, после учебы в Москве, до Войны, несколько лет работал по направлению, в Молдавии, в новой на то время -Автономной Молдавской республике, на партийной -пропагандисткой работе, хорошо знал наши края и наших людей.
Он мне рассказывал о своей родине, Якутии, её природе, людях, несметных тамошних разнообразных богатствах, найденных и пока неоткрытых.
Я, в свою очередь, рассказывал ему, как 22-года поднимал целину в Казахстане. Ему это было интересно, так как он об этом только слышал, но никогда не видел. Можно сказать, что так мы с ним и подружились, насколько это было возможно, при такой разнице в возрасте. Так сложилось, что все свободное у нас обоих время, мы проводили вместе.
За мной оставался сбор ракушек со дна лимана, для наживки, а на рыбалку – мы ходили вместе, и удили, пока у моего напарника, не начинала побаливать спина из-за долгого нахождения в нагнутом положении. Хотя надо сказать, что по всем своим физическим данным, Николай Гаврилович, выглядел в то время, гораздо моложе своих семидесяти двух лет.
Веселый, с таким добрым, чуть насмешливым прищуром глаз, он находился в постоянном движении, с ним приятно было быть рядом, тем более беседовать, на любую тему. Он знал жизнь не по учебникам, он прошел и изучил её (жизнь) изнутри. Тем и был интересен для меня, как собеседник.
Незаметно пролетели десять дней, срок его путевки закончился, и я проводил Николая Гавриловича до автобуса. Передал ему все мои накопленные запасы уже провяленных бычков (для себя – я еще наловлю!). Перед его отъездом, мы обменялись адресами, номерами телефонов и договорились о встрече, по моему приезду из Сергеевки.
Так и получилось. Когда я приехал домой, в Слободзею, то позвонил ему первым. Мы договорились, что по возможности, будем встречаться, просто так, без каких либо специальных намерений и, через время, Николай Гаврилович посетил нашу семью. Был как раз выходной день, и мы почти весь день были вместе. Я его повозил по Слободзее, показал дом, где я родился, школу, в которой учился, а также – место моей работы. Все ему понравилось. А пока мы с ним ездили по моему родному селу, жена приготовила традиционный казахский бешбармак, который гостю тоже очень понравился. Потом я отвез его в Тирасполь. Жил он вместе с семьей дочери, в одном из новых в то время , девятиэтажных домов, по улице Карла Либкнехта, недалеко от военного госпиталя .С тех пор наши встречи –стали регулярными. Он приезжал к нам, я –посещал его в Тирасполе.
Только тогда, после его первого посещения нашей семьи, я узнал, что Николай Гаврилович Золотарев (он же- Николай Якутский)– писатель, член Союза писателей СССР с 1946 года и Народный писатель Якутии. Что он пишет на якутском языке и в его творческом опубликованном активе, уже многие десятки различных художественных книг (только для детей около 20-ти!).
Честно говоря, для меня это была неожиданная новость. Первой его книгой, подаренной им нашей семье, была повесть «Из тьмы», о жизни простых людей в якутской глубинке, накануне прихода туда советской власти. Это была одна из многих его книг, переведенных на русский язык.
Та книга мне понравилась. Простая, понятная. Было видно, что автор не с чужих слов её писал, а сам, наверное, пережил нечто подобное. Понравилась набором событий и действий. Понравилась правдивостью, повествовательностью, простой жизненной аналитикой.
Я тогда не знал, да и не мог знать и даже представлять себе масштаба наработанного автором материала. Интернета тогда не существовало, а из нескольких строк в Энциклопедии, многого не узнаешь.
Уже много позднее узнал, что у Николая Гавриловича довольно солидное творческое наследие – серьезные романы, повести, очерки, рассказы, книги для детей, статьи, выступления.
Многие его книги, кроме русского, переведены на языки других стран мира (немецкий, чешский, латышский, украинский и др.).
По материалам повести «Золотой ручей», в 1972 году, на киностудии «Таджикфильм», был снят художественный фильм «Тайна предков».
Писал он под псевдонимом «Николай Якутский». Когда я однажды спросил, как у него появился такой псевдоним, причем еще в то время, когда он (еще до Войны) работал у нас, в Тирасполе.
Он рассказал, что служил в пограничных войсках, был одно время помощником начальника погранзаставы, в районе Тирасполя, где в то время, по Днестру, шла граница с Румынией, а потом был направлен, как политработник, на пропагандистскую работу в партийный аппарат молодой тогда еще -Молдавской АССР, в качестве лектора-пропагандиста.
Тогда же начал писать заметки и статьи в местные (Тираспольские и Одесские)газеты, на разные темы. А так, как среди авторов были еще Золотаревы, то редакторы, чтобы не путаться, предложили ему взять для себя псевдоним. Он и «придумал» – «Николай Якутский». Так как во всем юго-западном регионе в то время, был в наличии один «пишущий» ЯКУТ. Под этим псевдонимом, он и прожил свою плодотворную творческую жизнь, а его творческое наследие, представляет собой большую, не только повествовательно-воспитательную , но и историческую ценность. Это действительно достоверное и художественно оформленное историческое исследование.
Кстати, он первым раскрыл тему якутских алмазов, в художественной литературе. Книги – «Искатели алмазов», «Алмазы и любовь», «Первая получка» и др. и посвящены, как поискам и открытиям месторождений якутских алмазов, так и трудным периодам освоения и становления инфраструктуры на этих приисках.
Так сложилось, что именно в долине реки Вилюй, недалеко (по сибирским меркам) от места рождения Николая Гавриловича и были обнаружены алмазные месторождения. Автор неоднократно бывал в тех местах, знакомился с ходом работ по добыче драгоценных камней и благоустройству работающих там людей, поэтому его книги по этому направлению, как и по теме золотодобычи в Якутии – это действительно фотографическое отражение реальной действительности.
Наше знакомство растянулось на целых пятнадцать лет. Николай Гаврилович, в летние периоды, часто ездил на свою родину , посещал не только родные места, но и практически все новые яркие появление чего-то необычного на якутской земле.
По приезду домой, в Тирасполь, всегда приглашал меня к себе , делился «якутскими» впечатлениями, показывал фотографии и, полученные в разных местах подарки от благодарных земляков-читателей и Почитателей. Алмазы ему, правда, не дарили, в основном –разные поделки местных умельцев, но помню, однажды он мне показывал брусок угля, вырезанного из цельного угольного пласта. Тщательно выбранного, отшлифованного и с дарственной надписью. Ослепительно черного, с блестящими гранями и удивительно красивого. Ему подарили тот брусок в городе Нерюнгри, на Юге Якутии, где тогда заработал известный на весь СОЮЗ, мощнейший угольный разрез и куда подвели специальную железнодорожную ветку от Байкало -Амурской магистрали (БАМа).
Его всегда достойно принимали в родной Якутии. Земляки гордились им. И, как писателем, и , как Человеком. И это было справедливо.
Николай Гаврилович Золотарев, долгие годы возглавлял Союз писателей Якутии, был главным редактором ведущих якутских журналов.
Ко всему сказанному, хочу добавить, что он, еще с молодости, полюбил край, где я родился и вырос, то есть -наше нижнее Приднестровье и это тоже очень было приятно, лично для меня.
И ушел Николай Якутский из жизни именно в нашем Тирасполе.
Вот такая была у меня Встреча. Как награда за пойманные мною за один заброс Шесть бычков!. Не было бы их, возможно и не случилась наша встреча на том мосту. Но Судьбе именно так захотелось показать нас друг другу и ей это удалось. А я ей за это буду всегда благодарен и горжусь, что не только был знаком с таким замечательным Мастером, а в какой-то мере –пошел по его следам и стал писать в том же реальном, повествовательно- воспитательном стиле, ничего не выдумывая, а только шлифуя отдельные шероховатости в событиях и действиях по своему усмотрению.
Николай Якутский пришел в художественную литературу в 30 лет, мне посчастливилось стать в строй писателей только в 60. Николай Гаврилович, к сожалению, не успел познакомиться с моим творчеством и как-то оценить его, но сегодня мне не было бы перед ним стыдно за все, мною наработанное и , наверное, он бы одобрил выбранное мною творческое направление, которое во многом похоже по стилю, на его собственное.
Ночная встреча
Хорошо, что человек не знает, где упадет, а то вынужден был бы всю жизнь таскать за собой мешок соломы, чтобы смягчить место падения. Хорошо, что мы живем не в ожидании неприятностей, а постоянно надеемся на что-то хорошее и что-то лучшее. Хорошо, что не знаем, что, когда и как будет. Как говорится, судьба играет человеком, а человек играет на трубе… Так устроена жизнь. А все-таки его величество Случай или судьба-удача, занимают в нашей жизни не последнее место. Оглядываясь назад, все больше в этом убеждаюсь и благодарю судьбу, что события, участником которых я был, завершились именно так, а не иначе.
Всякое было в жизни. С высоты лет часто по-иному оцениваешь прежние события, и каждый раз философски про себя отмечаешь: «Раз живу и помню, значит, то, что раньше было со мной и вокруг меня, было хорошим».
И, слава Богу, что так.
Перевернем еще одну страницу альбома ащелисайской жизни. Так себе, частный эпизод. Таких случаев может быть, сколько угодно и где угодно. Мир их не замечает, но мы ведь только мелкие пылинки в этом огромном мире, и то, что случилось конкретно со мной много лет назад, – со мной и останется. И что удивительно, этот довольно неприятный случай, я вспоминаю не с негодованием или обозленностью, а с какой-то высокой благодарностью Судьбе и Богу.
А дело было так.
Жил и работал я тогда в Ащелисае. До города Орска, что в Оренбургской области, то есть уже в России, от нашего поселка, было чуть больше сорока километров, поэтому основные экономические, как сегодня говорят, связи, мы поддерживали с этим городом
И у нас в поселке, да и в соседних селах в те времена, не было мельниц, а в Орске действовала довольно солидная, сохранившаяся еще с царских времен. Поэтому многие крестьяне из окрестных сел, мололи там зерно на муку. Мука в Орске получалась отменная, да и зерно мололось качественное, все пшеницы – твердых и сильных сортов степной целинной зоны, с клейковиной до 40% и более. Из такой муки замечательный хлеб получался! Приятный на вид, вкусный, и упругий, как высококачественная губка.
Каждую осень, после получения натуроплаты, сельчане везли зерно на мельницу, заготавливая муку на всю длительную, восьмимесячную буранную зиму. Везли по семейным потребностям, кто пять, кто десять, а то и более мешков. Обычно группировались на поездку по родне, по друзьям-знакомым. Реже, просто – кто попадал по списку. Колхоз или МТС выделяли машину, если была дорога, или трактор с санями, – и где-то месяц-полтора, продолжалась «помольная» эпопея.
Пятьдесят шестой год был неплохим по урожаю зерновых. Зерна было много, половина его, к сожалению, пропала, но люди заработали в тот год неплохо, – и деньгами, и натурой. Я отработал сезон на тракторе и комбайне, тоже прилично заработал и решил купить себе баян. Сделать это можно было только в Орске. Но необходимо было потратить несколько дней на поездку на тракторе. День туда, день назад, пару дней на мельнице, – чуть ли не неделя уйдет. А мы как раз ремонтировали комбайны в мастерской, там стоял такой соревновательный дух между молодежью и «стариками», что просто так на неделю бригада не отпустит.
Но случай подвернулся. Конечно, это даже был не случай, а мое направленное действие. Дело в том, что рядом с нами в общежитии, жил тракторист Борис Забавин, целинник из Нижегородской ныне области. Работал он на тяжелом тракторе С-80 и часто ездил с зерном на мельницу. Я по-соседски попросил его, если будет возможность, взять меня напарником на один рейс.
Борис сдержал обещание и как-то раз обратился к заведующему нашей мастерской, с просьбой дать меня в напарники на один рейс, так как его сменщик заболел. Из трактористов на ремонте комбайнов был один я, и заведующий согласился, с неохотой. Как после выяснилось, напарник Забавина вовсе не болел, просто, когда Борис попросил его «заболеть», тот сделал это с великим удовольствием. Кому охота без кабины трястись при двадцатиградусном морозе два дня, тем более, что он был непьющим, по причине какой-то язвы. Ездить в такие рейсы в роли водителя или тракториста, можно было только с железным здоровьем. Ащелисайские мужики-помольцы, отрываясь от дома в город, старались как-то разнообразить свою жизнь. Они продавали часть отрубей, зерноотходов, да и муки, вроде бы как на гостинцы домой, ну и, конечно же, все дни такой «командировки» беспрерывно «причащались», как правило, до упаду.
Конечно, каждый раз люди менялись, но пили всегда, С такой публикой тяжело иметь дело тем, кто их возил. Ведь они-то, повторяю, менялись, а «водилы» были одни и те же, потому нагрузки на их организмы очень возрастали. Многие из них, после нескольких рейсов, «сходили с дистанции», но только не Борис Забавин. Этот истинно русский волжский парень, такой небольшой, кряжистый, мог выпить сколько угодно и чего угодно, тем более надурняк, так как в таких рейсах, его всегда поили клиенты.