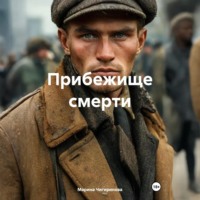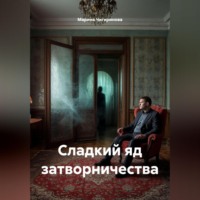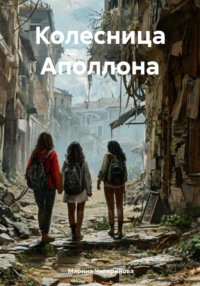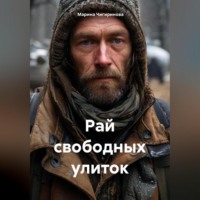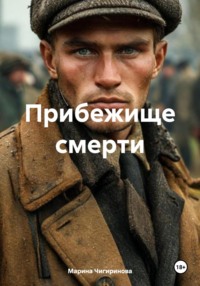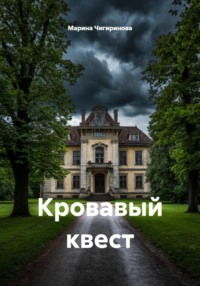Полная версия
Серебряная дорога в пустоту

Марина Чигиринова
Серебряная дорога в пустоту
(основано на реальных событиях)
Солнечный луч из-под двери рассыпался по комнате звенящими светлыми аккордами, как всегда по утрам пахло ванилью и еще чем-то родным, непонятным, но очень знакомым. Папа опять музицировал в гостиной, а братья тихо переговаривались за стеной чтобы не разбудить ее. Раньше она бы вскочила и босиком побежала к столу, как есть, в ночной рубашке, и ничто не могло бы разрушить ее радостного утреннего настроения, даже шутливое ее изгнание назад в спальню одеваться; но сейчас все изменилось – мир стал холодным, равнодушным, пустым и безрадостным. Огромное горе, черным комом свалившееся на нее, разрушило весь ее маленький мир, лишив его красок.
Ей было всего четыре года, когда не стало мамы. Она скучала по ее теплым рукам, запаху и прекрасному голосу. Вся квартира была им наполнена – мама распевалась и музицировала легко, играя с детьми, накрывая на стол, собираясь на прогулку. У нее был редкий голос – меццо сопрано, в Большом театре она пела не только женские партии, но и прекрасного юношу Леля из «Снегурочки». Нине все это казалось игрой, сказкой, которой была наполнена их жизнь и казалось, что так будет всегда. В семье было принято разыгрывать спектакли в которых принимали участие все четверо детей – трое братьев и Нина. Она стеснялась петь, голос у нее был слабенький с детской хрипотцой, братья же пели с большим энтузиазмом, хотя голосом бог одарил только среднего – Леву.
С тех самых пор, всю жизнь, каждую ночь Нина вспоминала мамины черты, которые постепенно утратили определенность, скорее всего любимый образ был подменен профилем со старого вытертого дагерротипа где мама была запечатлена в роли, с огромной корзиной искусственных цветов. Когда Нина пыталась вспомнить ее, то видела перед глазами только фрагменты – кружевной бантик на утреннем пеньюаре, прядь завитых волос, морщинку около рта, когда мама улыбалась… И тогда же она приобрела эту мучительную головную боль по ночам, которая не отпускала ее всю жизнь.
Мама умерла, когда ждала пятого ребенка, к сожалению, судьба жестоко отмстила ей, за то, что этого ребенка она не захотела… В их дом пришло горе, мамы не стало…
Москва, 1937 год
Шел тридцать седьмой год. Из теплого, знакомого с детства Крыма, пришлось ехать назад в Москву. Но жить было негде, и Нине с трудом удалось снять полкомнаты на первом этаже у молоденькой хозяйки и делить комнату с ветхой старушкой, разграничившей комнату ситцевой занавеской. Эти цветы с занавески до сих пор перед глазами – такие сарафанно-ярмарочные, красные на зеленом фоне. Когда закрываешь глаза, фон становился алым, а цветы наоборот – зелеными; этот яркий, слепяще-красный фон на всю жизнь стал связан с чувством животного страха, ужаса, который преследовал ее уже больше года. И только сейчас, вспоминая те времена, она знала, что страх в их жизни будет длиться долго, и они с маленькой дочкой будут все время прятаться, убегать, забиваться в щели, подобные этой комнате. И нищета… Она будет преследовать их также многие годы и станет уже чем-то привычным, заставляющим бороться и выживать любой ценой.
Вчера она видела человека в серой шляпе и длинном зеленоватом пальто, он почти полдня стоял в подъезде напротив, то прячась за газетой, то напустив на себя отвлеченный вид, покачиваясь, мерил тротуар широкими шагами. Это снова он?? Ноги наполнились свинцом, «неужели нашли»? Все дела валились из рук, а было так много работы, старые носочки и чулочки Ирочки уже были штопаны-перештопаны, купить новые было негде и не на что. Руки дрожали, иголка падала, Нина снова подходила к окну – обзор был недостаточный, но однажды она увидела его ноги в модных штиблетах. В первых сумерках он исчез, как будто растаял. Неужели это игра воображения?
Укоризненный скрип пружин за занавеской, заставил ее скорее погасить свет и, подоткнув Ире одеяло, можно лечь и самой. Но тишина сгущалась и становилась липкой, нагревая подушку, стало душно, как перед грозой. Сон уже давно стал для Нины редким гостем. Тревога не покидала, и не напрасно; за полночь у дома заскрипели тормоза подъехавшей машины, и на фоне не заглушенного мотора, послышалась торопливая дробь шагов по мостовой. Потом шум на лестнице и хлопок дверью двумя этажами выше. «Это не к нам! Не за нами!» – и кровь, которая сначала застыла в венах с шумом, горячо застучала в висках. Тишина. И стало слышно тихое дыхание дочки в кровати. Вскоре раздался грохот каблуков вниз по лестнице, как лавина, и шум отъезжающей машины, а потом снова тишина, тревожная и еще более страшная в своей неопределенности.
Почти все кого она знала, с кем дружила, и кого считала людьми своего круга, были арестованы. Был арестован и ее муж, Иосиф. Его увели из дома другой женщины, его новой жены. Вскоре была арестована и разлучница. А Нине, как бывшей жене удалось скрыться, затеряться сначала в Москве, а потом и в Ленинграде…
Но это был не он! Тот, кто следит за ней был незаметным как черная тень. Он бы пришел за ней… а не к соседям. Значит не сейчас…
Москва. Детство
Обычно, каждый год они снимали новую квартиру из экономии, так как все лето, три прекрасных месяца, они проводили в Крыму по приглашению знакомого купца П. Г. Шелапутина, невероятно интересной, несправедливо забытой, личности. Он был потомственным дворянином, старообрядцем очень много сделавшим для России.
Отец Нины, Михаил Дмитриевич Малинин, познакомился с ним в Балашихе, где его отец, дед Нины, занимался постройкой православного храма. А Павел Григорьевич был одним из основателей Товарищества Балашихинской мануфактуры, вошедшей в перечень 100 крупнейших предприятий России. Он создал при производстве дом презрения где одновременно содержались 120 престарелых работников и детей сирот, был организатором и председателем Общества Средних торговых рядов в Москве, открыл парк своего имения в Покровском-Филях для широкого доступа, там же устроил приют для неизлечимо больных (на 20 человек).
П. Г. Шелапутин в молодости увлекался музыкой и искусствами, что его еще больше сблизило с Михаилом Дмитриевичем, у которого был довольно широкий круг общения, он давал уроки пения и пел в опере, его другого, близкого друга С. И. Мамонтова.
Жизнь была беспечная, полная музыки и общения с прекрасными творческими людьми. Отец добился большого мастерства в преподавании, пел хорошо поставленным голосом, брал уроки вокала в Италии, где жил какое-то время. Михаил Дмитриевич гордился, когда был избран почетным гражданином города Москвы.
С мамой они поселились недалеко от здания оперы Мамонтова, на Большой Дмитровке. В снимаемой квартире всегда было четыре комнаты – в одной жила Нина, после того как умерла мама, она делила ее с Кумой, сестрой матери, Верой Константиновной Никольской. Во второй – жили мальчики Борис, Лев и Юрий. Третья, самая большая принадлежала главе семьи – Михаилу Дмитриевичу, там стоял рояль, так как он принимал учеников, спал он там же на диване.
Четвертая комната – столовая, где собиралась вся семья за обедом, стол сервировался довольно скромно, весной и летом в вазе стояли цветы, а у каждого члена семьи было свое колечко для салфетки, у отца было серебряное с витой черненой каймой по краю, у Нины нежное, резное из кости.
Дети в семье рождались каждые два года – Борис, Лев, Нина и младший сын – Юрий. Братья успели получить высшее образование, в отличие от Нины, которая была вынуждена рано начать работать. Одна, без поддержки братьев и отца, который позже женился вторично она билась за выживание, когда вокруг мир рушился. Братья разлетелись из Москвы, как оперившиеся птенцы из гнезда.
Старший – Борис с раннего детства мечтал строить корабли, он уехал учиться в Санкт-Петербургский Политехнический институт на кораблестроительный факультет, позже факультет отпочковался в самостоятельный институт. Там Борис Михайлович Малинин и проработал всю свою жизнь, главным делом его жизни была работа над первой российской подводной лодкой. Во время работы над ней, его дважды арестовывали, но оба раза возвращали, так как без него деятельность конструкторского отдела останавливалась. Впоследствии, его труды были вознаграждены Сталинской премией, он получил должность профессора и степень доктора наук. Сейчас эта лодка стоит в Санкт-Петербурге на пирсе Васильевского острова, в ней действующий музей.
О среднем сыне, Льве, долгое время в семье боялись говорить. Он с детства отличался от всех, был красив, талантлив и ярок, прекрасно рисовал, писал стихи, обладал мощным поставленным голосом. Он единственный вращался в светском обществе и был офицером царской армии, во время гражданской войны служил адъютантом А. И. Деникина, одного из самых блестящих руководителей белого движения. Лев Михайлович погиб в гражданскую войну.
Младший, Юрий ушел на фронт в 1914 году вслед за своим старшим братом, Львом, где был тяжело ранен в живот, потом всю жизнь его мучил осколок снаряда, он занимался разнообразной деятельностью, в семье шутили, что в трудные времена производил ликер Бенедиктин. Он тоже был многогранно-талантлив, работал в ЭПРОНе, организации, занимающейся подъемом затонувших морских судов, а в Великую Отечественную войну он был майором интендантской службы под Сталинградом. Потом на Сахалине Юрий Михайлович занимался подъемом затонувших кораблей, а в 1945 году был переведен в Берлин, где был Секретарем Контрольного Совета от Советской стороны. Затем, в 1946 направлен в Кенигсберг. Был в звании полковника, но носил военно-морскую форму.
Маму Нине и братьям заменила Кума, именно так все в семье называли тетушку Веру, сестру мамы, потому, что она была крестной Юрия, старалась помогать по хозяйству, но день ото дня становилась слабее и безразличнее к окружающему миру. Михаил Дмитриевич по прошествии нескольких лет после смерти жены (Варвары Константиновны в девичестве Никольской) сделал предложение руки и сердца Куме, сестре Варвары, и получил неожиданный отказ.
Кума всю жизнь хранила в сердце безответную любовь к человеку, в семье которого она работала в юности гувернанткой и детей которого несколько лет она воспитывала. Это послужило причиной того, что она вынуждена была уволиться и переехать жить к сестре Варваре, бросить воспитанников к которым уже привязалась, и помогать ей с воспитанием детей сестры, которых стало уже четверо. Хотя в доме и была прислуга (кухарка, горничная и приходящая прачка), помощь сестры была не лишней. Куму еще в семье называли «черкешенкой», она была смуглой, большеглазой с греческим профилем, ее благородная красота притягивала взгляды, но она хранила верность своей первой платонической любви, и так и осталась на всю жизнь старой девой.
И хотя Кума и отказала отцу, они решили, что она останется и поможет растить детей. Долгое время она заменяла им мать, даже тогда, когда Михаил Дмитриевич Малинин снова женился. Как помнила Нина, их дом был всегда полон музыки и людей и света, Михаил Дмитриевич любил гостей и не признавал занавесок. Приходили ученики, отец давал им уроки вокала, этим и содержал многочисленную семью. Он обладал приятным и сильным баритоном и какое-то время вместе со своей женой Варварой Константиновной еще и пел в опере Саввы Ивановича Мамонтова, известного мецената, бессребреника и его близкого друга.
Савва Иванович занимался поиском талантов, и бескорыстной их поддержкой. Он не только собирал у себя в Абрамцево художников и музыкантов, предоставляя им столь живописное, дачное место для работы, но и покупал им краски, поддерживал в их разнообразных творческих начинаниях. Васнецов, Врубель, Коровин, Серов, Левитан и другие талантливые и известные художники много времени проводили в Абрамцево.
Часто, когда Мамонтов приходил в гости к Малининым, все азартно играли в «живые картины». Готовились заранее, каждый ребенок изобретал свой наряд, в соответствие с ролью, а когда приходил гость, ведущий, все замирали, изображаю сцену из любимого спектакля, литературного произведения. Гость должен был не только угадать произведение, но и определить каждого героя. Любимой оперой у детей была – «Садко». Эту оперу они часто ставили дома, они знали наизусть все партии. Все женские роли исполняла Нина, а прекраснее всего была роль варяжского гостя в исполнении Левы.
Опера была одним из любимых детищ Мамонтова, он привлекал к ее работе многих людей, там пел даже Шаляпин. Сестры Любатович принимали в ней участие как актеры, Татьяна пела партии Кармен, Леля, Далилы; старшая, Александра, заведовала финансами, они работали как костюмеры, раздавали билеты, переписывали партитуру и хлопотали, помогая везде, где это было нужно. Всем шестерым сестрам находилась работа.
Савва Иванович был неравнодушен к одной из них – к Татьяне Спиридоновне, на которой впоследствии женился. Широко известен «Портрет артистки Татьяны Спиридоновны Любатович» К. Коровина, находящийся в Русском музее Санкт-Петербурга. А Михаил Дмитриевич женился на другой сестре – Анне Спиридоновне. В браке у них родилось двое детей Роман и Марина, ставшие сводными братом и сестрой Нины.
Марина была очень самостоятельной девушкой и в 16 лет вышла замуж и взяла фамилию мужа – Раскова. Ее независимый, самостоятельный характер и определил ее дальнейшую судьбу – она стала знаменитой летчицей. Мачеха не смогла заменить Нине мать, а только вызывала в ней ревнивые, неприязненные чувства.
Москва, начало 1920-х годов. Встреча с Иосифом
Москва была для Нины не просто родным городом, она была другом, с которым хотелось делиться и радостью и горем. Поэтому, когда выдавалась минутка, она любила погулять в московских переулках, находя новые для себя закоулки и тупички со вросшими по окошки в землю белокаменными церквушками и маленькими подворьями, уютными садиками в патриархальном стиле.
Ей казалось, что она путешествует во времени, когда фантазия смывает всю современную шелуху, оставляя то важное, что составляет идентичность этого прекрасного города. Москва всегда казалась ей Вавилоном, наполненная пестрой разноязыкой публикой спешащей по своим делам по мощеным мостовым.
Во время своих прогулок она обратила внимание на стройного господина в элегантном костюме.
Впервые она увидела его недалеко от своего дома на Пятницкой, просто обратила внимание на необычного господина, спешащего по делам. Позже она узнала, что в то время он учился в военной Академии РККА им. К. Е. Ворошилова, жил в общежитиях, довольно далеко от академии, которая размещалась тогда в доме 19 по Кропоткинской улице.
Не обратить на него внимание было невозможно, его облик всегда отличался какой-то особой элегантностью и шиком. Не зависимо от того был ли он в военной форме или в штатском, в нем сквозило нечто, что сейчас называют «порода».
Они познакомились случайно и Иосиф был удивлен, что столь юная девица работает управдомом и занимается столь сложными и лишенными романтики делами.
Нина была не влюбчивой, серьезной девушкой, в пору расцвета ее девичьей красоты, скорее даже не красоты, а миловидности и свежести. Яркий румянец во всю щеку, густые темные волосы, по моде ровно обрезанные чуть ниже мочки, несколько кокетливыми были кружева на воротничке-апаш кремовой блузки, туго стянутая пояском талия. Никаких украшений она не признавала, все это с 1917 года считалось проявлением мещанства.
– Здравствуйте Иосиф – прямо глядя в его ореховые глаза, ответила на его приветствие Нина.
Иосиф очень сильно отличался от всех, кто окружал Нину. Иностранец, франт… Может именно этим он и привлек ее внимание?
К этому моменту, несмотря на их молодость, жизнь их не была легкой и они многое успели претерпеть.
Нина, еще до первой мировой войны, работала в компании «Кавказ и Меркурий» где она была востребована, благодаря знанию нескольких языков и свободному владению французским, компания была процветающая и юную девушку взяли туда благодаря протекции отца. Во время войны 1914, движимая патриотическими чувствами и примером многих царственных особ, Нина стала сестрой милосердия, работала хирургической сестрой и ассистировала на сложных операциях. Она не боялась вида крови и ран, поэтому хирург, которому она ассистировала, быстро выделил ее из остальных и предпочитал привлекать ее в качестве главной операционной сестры. Она хорошо запомнила эти тяжелые для страны дни, когда каждый стремился помочь, чем может. Раненых было все больше и больше, их уже размещали где придется, поэтому многие девушки помогали в уходе за раненными.
Это было тяжелым испытанием для молодой девушки. Она часто вспоминала раненого солдата, который долго и мучительно умирал, оглашая стонами весь лазарет. Когда Нина проходила мимо он схватил ее за юбку и удерживая что-то тихо и неразборчиво шептал, слезы текли по его небритым морщинистым щекам. На следующий день его не стало. Нина корила себя за то, что не смогла его утешить, разобрать слова… Не может забыть, и как кричал совсем молодой мальчик, которому отрезали ногу практически по живому, чтобы спасти его от гангрены.
Она до сих пор помнит, как они чувствовали особое единство команды, работая у операционного стола, где по одному движению бровей хирурга каждый понимал, что от него требуется. Он был высокий брюнет, строгий и пожилой, как ей казалось. Тогда она думала, что влюбилась, вечерами повторяла про себя его имя «Алексей Иванович» которое звучало для нее как музыка. Но это была не любовь, а первая девичья влюбленность, так влюбляются гимназистки в своих преподавателей. Ей даже казалось, что и он неравнодушен к ней, и предавалась светлым мечтам. А потом, она долго хранила оброненный им платок с вышитыми васильками. С тех пор всю жизнь мечтала стать хирургом, но не довелось…
Кроме гимназии Нина так ничего и не закончила, жизнь закрутила ее в таком вихре, что не дала ей возможности осуществить свою мечту. И теперь такая проза – работа управдом дома 53 по Пятницкой улице.
Иосиф Бачич (Зенек) родился в Загребе, был хорватом по национальности, его семья переехала во Львов, где позже умерли от туберкулеза две сестры Иосифа.
Во время войны 1914 года он служил офицером польской армии, и вскоре попал в плен к русским, где горячо проникшись идеями революции, вступил в коммунистическую партию, всегда был фанатично предан идеям революции, снова учился, а позже воевал на полях гражданской войны. В последствии за свои заслуги в боях под Нанкином (Китай) был награжден орденом «Красного знамени» за № 38 (№ 1 был у Блюхера В. К.).
Нина влюбилась, Иосиф красиво ухаживал, и в эти трудные времена радовал ее скромными подарками, то цветочком, который она потом долго хранила между страниц французского словаря, то маленьким пирожным, то неожиданной прогулкой по закоулкам Москвы. Но главное, чем он привлекал ее, тем, что он умел слушать и проникаться всеми ее проблемами и заботами. Ему было интересно все что она рассказывала, он был готов ее слушать часами.
Потом она вспоминала, что это было начало самой счастливой поры в ее жизни. Наверное трудно распознать счастье, когда оно есть, только оглянувшись назад понимаешь, как счастлив был тогда. Мы обычно торопим время и думаем, что скоро будет лучше, что-то пройдет, и наступит другая, счастливая жизнь, а оказывается, что жизнь-то пробежала мимо и остались только смутные воспоминания, пожелтевшие фотографии и рассыпающиеся цветы, потерявшие аромат…
Свадьба была скромной, набегу они расписались в загсе и Иосиф переселился к ней в 17-ую квартиру на Пятницкой улице, дом 53. Это была та самая последняя квартира, которую снимала семья Малининых.
Не стало папы, разъехались братья, квартира опустела и хотя мамы уже не было давно, у Нины было ощущение ее постоянного присутствия, то слышалось шуршание платья, то чувствовался смутный аромат ее духов, то летом звуки рояля из чужих окон напоминали ее. И боль, постоянная головная боль продолжала мучить…
После революции, Нина так и осталась в одной квартире вдвоем с Кумой, где их уплотнили оставив только две комнаты, в эти комнаты и переехал Иосиф. Все семейные заботы легли на ее плечи. Братьев раскидала жизнь, они давно уехали из Москвы.
Михаил Дмитриевич уже с 1910 года жил в новой семье, а в 1918 году он погиб, выходя из трамвая, попал под мотоцикл.
Опера Мамонтова просуществовала недолго, широкая благотворительная, меценатская деятельность, бескорыстное служение родине (он на свои средства построил железную дорогу Москва-Вологда) привели его к банкротству. Конец его был очень печальным – он в одиночестве умирал в ночлежном доме.
Появление мачехи было тем окончательным рубежом, за которым начиналась самостоятельная взрослая и непростая жизнь. Нина очень быстро встала на ноги и легко руководила своим маленьким мирком. Работа управдомом не была столь простой, как может показаться на первый взгляд, нужно было решать много проблем, уборки, отопления расселения и многое другое.
Зимой она следила за уборкой снега, убирать приходилось большую территорию углового дома и половину проезжей части. Колоритный дворник Абдулла, татарин в белом фартуке и с металлическим жетоном, руководил всей своей семей которая не жалела сил, помогая ему: сыновья по очереди впрягались в веревку, привязанную к двум концам фанеры куда остальная команда огромными лопатами бросала снег. В уборке снега принимали участие не только трое сыновей Абдуллы, но и вся его родня, периодически приезжающая его навещать. Нина уже не пыталась их запомнить – так много их было и так часто они сменяли друг-друга. Помимо этого в борьбу со снегом часто включалась и ребятня из соседних домов со своими маленькими лопатками. Румяные и довольные они начинали шалить и тут же изгонялись серьезными сыновьями Аблуллы, хотя младший из них был лишь немного старше шумной ребятни…
Это было начало самого счастливого периода в их с Иосифом жизни, когда Нина впервые почувствовала какую-то особую ее полноту. У нее теперь есть МУЖ! Она пыталась это осознать и привыкнуть к этому, ее душа наполнялась каким-то новым волнующим чувством. Она ощутила себя по настоящему взрослой и самостоятельной.
Когда они вместе прогуливались по улицам она ловила на себе завистливые взгляды женщин, Иосиф в форме привлекал их внимание всегда, в последствие это стало не только ее проблемой, но и неожиданным спасением…
Китай, 25–27 гг
– Вставай, пора собираться, скоро ехать – Иосиф контрастным силуэтом, как вырезанным из черной бумаги, появился на фоне окна. Нине хотелось зажмуриться и спать дальше.
В Москве осень, конец сентября, а еще так тепло… Не верилось, что придется ехать так далеко, в Китай, навстречу совершенно новой жизни. Нина очень гордилась своим мужем, его направили в качестве военного советника Гуанчжоуской группы, это было очень почетное поручение партии, его могли доверить не каждому и она была уверена, что Иосиф оправдает это доверие… Неясность будущего не пугала, даже наоборот, радовала, и приводила ее в невероятное возбуждение. С ним ей было никуда не страшно ехать, хоть к черту в пекло.
– Уже иду, – щурясь на яркий свет, Нина встала босиком на холодный пол и весело побежала кипятить воду.
– Мне не долго собраться… – не успела она договорить, подавившись сладким утренним поцелуем мужа.
Нина была очень организованной и заранее собиралась, составляла списки того, что может понадобится в долгой дороге, а Иосиф был спонтанным и безмятежно рассчитывал многое купить на месте.
События в Китае Нине представлялись запутанными и пугающими, но главное она понимала – там борются за независимость, за равенство, за освобождение от империалистического гнета. Возглавлял это движение Сунь Ят-сен, вождь гоминьдана и глава созданного в 1923 году, на юге Китая, в Кантоне (Гуанчжоу), Национально-революционного правительства.
Сунь Ят-сен в своей революционной деятельности опирался на опыт СССР и искал поддержки у опытных российских революционеров-большевиков, одним из которых был М. М. Бородин, возглавивший русскую делегацию в Китай. Уже через год после первых переговоров Советские советники добровольцы стали работать в Китае. Сунь Ят-сен прославился как «собиратель китайской земли», стремящийся объединить разрозненные территории Китая. Обстановка осложнялась не только социо-культурной спецификой страны, чуждыми обычаями и языком; главную опасность представляло милитаристское движение. Стремления Сунь Ят-сена встречали сопротивление со стороны местячковых милитаристов, обладающих реальной властью и поддержкой.
Одним из генералов чжилийской клики милитаристов был Фэн Юй-сян, возглавивший переворот. Будучи вероломным и беспринципным, в октябре 1924 г. выступил против чжилийцев, переименовал свои войска в Национальную армию (Гоминьцзюнь) и занял столицу страны – Пекин.
Перевороты и переходы революционеров из одного лагеря в другой были характерны для того периода. Платформа Фэн Юй-сяна, постепенно эволюционировала и и по некоторым позициям приблизилась к взглядам Сунь Ят-сена. Он освободил из тюрем профсоюзных деятелей возобновилась деятельность профсоюзов, кроме этого перешли на легальное существование – гоминьдановские организации [1].