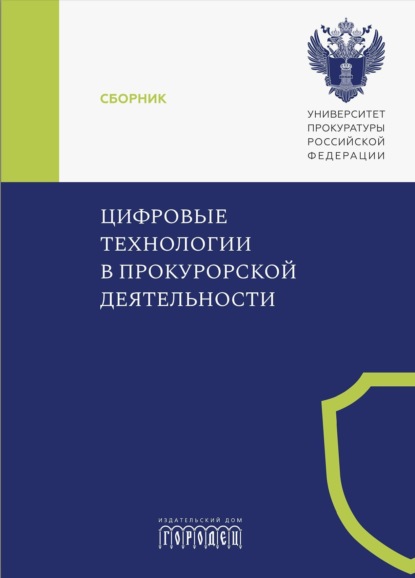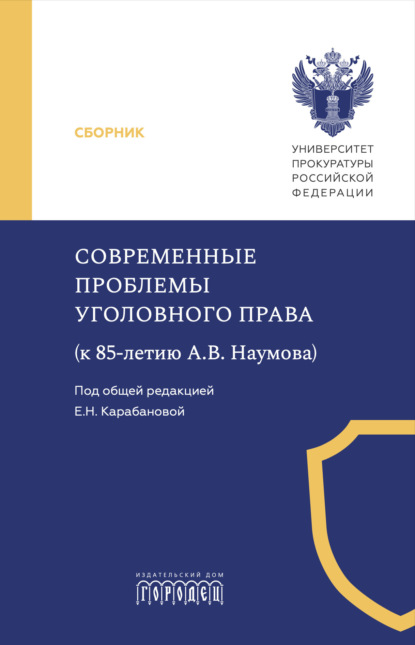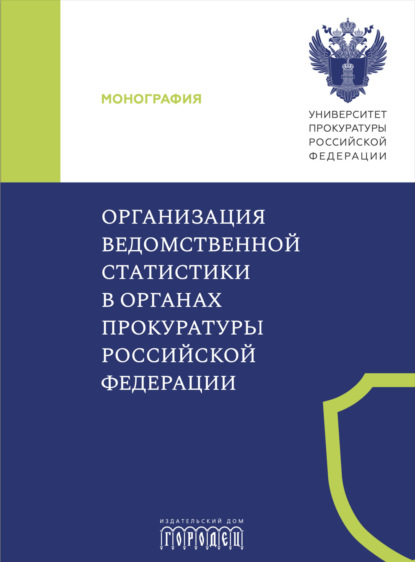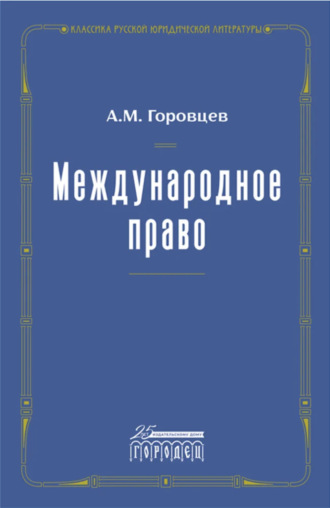
Полная версия
Международное право
Siebentes Kapitel. Dеr neuere рhilosophische und eklektische Positivismus Ss. 478–523. §§ 110–123
Содержание последней, седьмой главы литературно-исторического обзора проф. Ривье составляет очерк развития науки международного права в XIX столетии, характеризуемого им, как проявление новейшего философского и эклектического позитивизма. В этой главе, как и в предшествующих, автор, по большей части, давая длинный ряд имен ученых, ограничивается изложением, помимо некоторых биографических о них данных, краткого содержания их трудов и лишь изредка сопровождает его критическими замечаниями, к тому же заимствуемыми, по большей части, у других историков литературы международного права, – Омптеда, Кальтенборна, Моля и др. Так говорит он о Заальфельде, Шмальце, Шмелцинге, Пелице (§ 111) и даже о Клюбере (§ 112). Только относительно Геффтера и Блюнчли проф. Ривье высказывает отчасти свой личный взгляд, находя, что на первом из них во многом сказалось влияние Гегеля, и подвергая самостоятельной критике систему, положенную в основание труда Геффтера, который в этом отношении, по мнению Ривье, много выиграл от последующей обработки его Геффкеном (§ 113); что же касается Блюнчли, то автор, не отрицая его заслуг, указывает однако также и на основной недостаток его труда, заключающийся в смешении желательного с действительно существующим, так что его международное право является, пожалуй, более правом будущего, чем настоящего (§ 114).
Из остальных немецких авторов нового времени проф. Ривье называет (§ 115) Оппенгейма, Пецля, Неймана, Домин-Петрушевича, с его первым опытом кодификации международного права, Пародо, Гольцендорфа, Бульмеринка и Реша, останавливаясь более подробно и с наибольшими симпатиями на последних трех писателях – в особенности же на Бульмеринке, которому он вменяет в преимущественную заслугу предложенную этим писателем систему основного деления всего международного права на материальное и формальное. За немцами следуют англичане (§ 116) – Моунтегью Бернар, Голланд, Гаркоурт, Ок-Маннинг, Вильдман, Филлимор, как наиболее яркий представитель английской школы позитивного международного права, Травер Твисс, Крэзи, Голл и др., и северо-американцы (§ 117) – Стори, Уортон, Кент, Фильд, Уитон, Голлек, Ульсей, Либер, Бич Лауренс и др. У Кента и у Голлека Ривье отмечает исключительно практический характер изложения международного права, как одной из отраслей американского действующего права; Уитона же и Лауренса он считает наиболее видными, из числа американцев, представителями направления, конструирующего эту дисциплину на международных и философских началах. С большой похвалой отзывается автор о труде Фильда. Из итальянцев, проф. Ривье приводит, с одной стороны (§ 118), имя родоначальника националистической школы Манчини, положившего в основу своего учения международного права мысль о том, что субъектом последнего является не государство, а человек, индивидуум, а с другой – Мамиани, представителя общепринятого направления в смысле признания исключительно государств субъектами международного права. За этими именами следует ряд других итальянских имен: Казанова, Фиоре, Карнацца Амари, Пиерантони и т. д.
Среди испанцев и близких к ним национальностей – южно-американцев, португальцев и бразильцев – проф. Ривье называет (§ 119) Пинейро-Феррейра, Белло, Пандо, Рикуэлме и других, с Кальво во главе, отмечая позитивный характер трудов последнего из названных писателей.
Отфейль, Коши, Ортолан, Феликс, Деманжа, Массе, Кюсси, Гарден, Функ-Брентано и Сорель, Рено, Прадье-Фодере и др. составляют ряд имен французских писателей по международному праву, приводимых автором (§ 120), а Фергюсон, Ролэн-Жакмен, Лоран, Борнеман и др. – ряд имен международников других национальностей (§ 121), помимо русских и греков, о которых проф. Ривье говорит в заключение особо. Из русских он называет (§ 122) Безобразова, Каченовского, Капустина, Стоянова и Мартенса, останавливаясь более подробно на трудах последнего писателя, который, как указывает Ривье, благодаря своему выдающемуся знакомству с историческим материалом, особенно с тем, что хранился в русском государственном архиве, бывшем доселе более или менее недоступной сокровищницей, как нельзя более призван был обогатить науку международного права превосходной работой, поскольку, в особенности, она касается России и русских отношений.
Греческие имена Сариполоса и Кириаку (§ 123) замыкают собой приведенные выше ряды имен ученых писателей по международному праву.
ZWEITER BAND. DIE VÖLKERRECHTLICHE VORFASSUNG UND GRUNDORDNUNG DER AUSWÄRTIGEN STAATSBEZIEHUNGEN
Второй том рассматриваемого труда, имеющий своим содержанием международно-правовое устройство и основной порядок внешних государственных отношений, разделяется на десять самостоятельных частей, от V до XIV включительно (считая по общей нумерации всего труда), следующего содержания: V – «Государство, как международно-правовая личность» (Der Staat als völkerrechtliche Persönlichkeit), VI – «Основные права и обязанности государств» (Grundrechte und Grundpflichten der Staaten), VII – «Системы государственного устройства и государственного управления в международном отношении» (Staatsverfassungen und Staatsverwaltungen in internationaler Hinsicht); все эти части принадлежат перу проф. Гольцендорфа. Далее следуют части: VIII – «Международно-правовое положение Папства» (Die völkerrechtliche Stellung des Papstes) – монография Геффкена; и IX – «Общее учение о государственной территории» (Das Landgebiet der Staaten) – проф. Гольцендорфа. Следующую, X часть составляет классическая в области ручного права работа Каратеодори – «Речное право и международное судоходство по рекам» (Das Stromgebietsrecht und die internationale Flussschifffahrt). Дальнейшие две части, посвященные морскому праву: XI – «Морская территория и правовые основы международного морского сообщения» (Das Seegebiet und die rechtlichen Grundlagen für den internationalen Verkehr zu See) и XII – «Открытое море» (Das offene Meer) принадлежат проф. Штерку; предпоследняя, XIII часть – «О запрещении работорговли и морского пиратства» (Die Interdiction von Sklavenhandel und Seeraub) – проф. Гареису, а последняя, XIV, заключающая в себе учение «О подданных государства и об иностранцах» (Staatsunterthanen und Fremden) – проф. Штерку.
FÜNFTES STÜCK. DER STAAT ALS VÖLKERRECHTLICHE PERSÖNLICHKEIT
VON PROF. DR. FRANZ VON HOLTZENDORFF. SS. 1–44. §§ 1–12
Пятая часть – «О государстве, как о международно-правовой личности» – в свою очередь, разделяется на три особые главы, в которых трактуется сначала об условиях, необходимых для признания за государством характера международно-правовой личности (Voraussetzungen der Völkerrechtspersönlichkeit), затем о возникновении государств и прекращении их существования (Entstehung und Untergang der Staaten) и, наконец, о наследовании вновь возникающих государств (Die Rechtsnachfolge neuentstandener Staaten).
Erstes Kapitel. Voraussetzungen der Völkerrechtspersönlichkeit
Ss. 5–18. §§ 1–4
Установив (§ 1) в качестве основных предусловий международно-правовой личности – помимо общих необходимых условий существования государств (территория, население и власть) – также и способность самоопределения в международных отношениях (суверенитет в международно-правовом смысле) и готовность к самоограничению и к подчинению началам господствующего в международных отношениях порядка, автор рассматривает, в частности, вопросы о международно-правовом суверенитете государств, о равенстве и неравенстве их и о так наз. политическом равновесии европейских государств. Относительно суверенитета в международно-правовом смысле проф. Гольцендорф указывает (§ 2) на те, по его мнению, отличия этого понятия от такового же понятия в государственно-правовом смысле, что первый вид суверенитета принадлежит всегда, независимо от того, кто является его носителем, самому государству – народу, тогда как относительно суверенитета в государственно-правовом смысле является не бесспорным вопрос о том, не может ли он принадлежать непосредственно его носителю. Кроме того, в первом понятии основной элемент – отрицательный (неподчинение другим государствам), во втором же – положительный (принудительная власть по отношению к подданным). В качестве основных признаков международно-правового суверенитета, автор устанавливает право ведения войны и самостоятельного определения своего внутреннего устройства.
Упомянувши далее (§ 3) о полном равенстве de jure всех государств, – несмотря на неравенство их de facto в зависимости от влияния формы и характера правления, географического положения, общего политического значения и т. п. – проф. Гольцендорф заканчивает рассматриваемую главу рассуждениями (§ 4) о политическом равновесии, сущность которого он сводит к тому положению, что чрезмерно крупные территориальные изменения в тех или иных государствах затрагивают не только интересы этих последних, но также в известной мере и общие мирные интересы и безопасность третьих государств.
Zweites Kapitel. Entstehung und Untergang der Staaten
Ss. 18–33. §§ 5–9
В следующей главе «О возникновении государств и о прекращении их существования» – автор, после общих замечаний по этому вопросу (§§ 5 и 6), суть которых заключается в том, что в данном случае решающее значение принадлежит совершившемуся факту, как результату взаимодействия причин внутренне государственного и международного характера, останавливается наиболее подробно на вопросе об оформлении этого факта в смысле признания вновь возникающего государства другими членами международного общения, – в частности, в том случае, когда, как это обыкновенно и бывает, признание нового государства связано с признанием прекращения существования какого-либо другого или прекращения власти последнего по отношению к территории вновь возникающего. Указывая на крайнюю трудность разрешения вопроса о своевременности акта признания, который является, в конце концов, quaestio facti, автор, после общих рассуждений на эту тему, устанавливает (§ 7) в данном случае более или менее определенные принципы в том смысле, что признание можете следовать не ранее окончания военных действий, если ими сопровождается возникновение нового государства, что основанием к нему может служить факт последовавшего уже признания вновь возникающего государства тем, за счет которого оно образуется, а также и факт установления в новом государстве известного гражданского порядка, и, наконец, что при сомнении всегда должна быть презумпция в пользу прежнего государства. Упомянувши далее (§ 8) о формах признания (специальное – на конгрессе или путем договора, и молчаливое – путем конклюдентных действий: установления дипломатических сношений, заключения договоров, выдачи преступников и т. п.), а также и о признании условном (напр., Румынии по Берлинскому трактату), теоретическая состоятельность которого должна представляться спорной, автор переходит к вопросу о правовом эффекте признания, устанавливая главнейшие положения его (§ 9) в том смысле, что оно оказывает немедленное действие и даже обратное по отношению к прежним актам вновь признаваемой власти, что оно не может быть взято назад, что с ним связано признание также и частноправовых интересов нового государства, равно как и внешних знаков его самостоятельности – герба, флага и печати, и что, наконец, в случае кратковременности существования нового государства, это обстоятельство нисколько не умаляет значения факта совершившегося его признания.
Drites Kapitel. Die Rechtsnachfolge neuenstandener Staaten
Ss. 33–41. §§ 10–12
Обращаясь далее к вопросу о правонаследовании вновь возникающих государств, составляющему содержание третьей главы рассматриваемой третьей части, проф. Гольцендорф прежде всего указывает (§ 10) на неправильность применения здесь, по аналогии, норм гражданского права (тем более, что в силу последнего государства как юридические лица должны были бы быть признаны, в принципе, не имеющими прав наследования), а также выясняет неправильность самого возбуждения вопроса о наследовании в тех – могущих по внешним признакам подать повод к возникновению этого вопроса – случаях, когда нет в действительности налицо перевоплощения государства, как международно-правовой личности, в другую, таковую же личность (напр., при распадении федеративного государства на его составные части или, наоборот, при соединении нескольких государств в федерацию, при уступке части территории). Что касается самого существа наследования, то в имущественном отношении автор устанавливает (§ 11) для нового государства принцип полного преемства, относительно же правоотношений личного характера указывает, что существование договоров правообразующего (rechtsnormativen) характера остается вне влияния факта прекращения существования государств; договоры же политического свойства находятся в непосредственной зависимости от всякого существенного территориального изменения государства, за исключением впрочем обязательств, имеющих значение строго местных сервитутов (§ 12).
SECHSTES STÜCK. GRUNDRECHTE UND GRUNDPFLICHTEN DER STAATEN
VON PROF. DR. FRANZ VON HOLTZENDORFF. SS. 45–74. §§ 13–18
Следующая, VI часть, – «Об основных правах и обязанностях государств» – начинается общими рассуждениями по этому вопросу (§ 13), среди которых заслуживают внимания указания автора на то, что и эти права суть не объективные, изначала существующие, а образовавшиеся путем векового их развития, что действие их также не абсолютно и может временно приостанавливаться, напр., во время войны или оккупации (подобно тому, как в области внутренне государственного права приостанавливается иногда действие даже таких основных начал, как Habeas Corpus Act). Называя в качестве основных прав государств право самосохранения, право (внутренней) самостоятельности и независимости, право международного общения и право на уважение, – проф. Гольцендорф, при рассмотрении права самосохранения (§ 14), останавливается на вопросах об его содержании, особенность которого он видит в его преимущественно отрицательном характере (не столько активное его осуществление, сколько недопущение посягательств на него), об области его действия (по отношению к нарушениям его в открытом море, по отношению к восстающим собственным подданным, по отношению к иностранцам, когда они попадают в пределы власти государства, против которого ими совершено преступление, и по отношению к другим государствам и народам) и, наконец, о средствах охраны этого права – вплоть до защиты его вооруженной силой, для применения которой можно не ждать нападения противника, а достаточно быть достоверно осведомленным о делаемых им к тому приготовлениях. К числу таковых автор относит усиленные вооружения, и так как последние часто способствуют возникновению войны, то он высказывается за признание за третьим государством права и обязанности содействовать в подобных случаях сохранению мира. Устанавливая далее (§ 15), в принципе, право внутренней самостоятельности и независимости государств, автор указывает, однако, на допускаемые из этого принципа исключения в тех случаях, когда речь идет об интересах, регулируемых общепризнаваемыми международно-правовыми нормами (напр., относительно судоходства); когда на государство, вновь устанавливаемое с общего согласия других государств, налагаются определенные обязательства (напр., признание свободы совести, недопущение негроторговли и т. п.); когда, по окончании войны, победитель может обусловить даже изменение внутреннего устройства побежденного государства, если он видит в этом вернейшее средство оградить себя в будущем от нападения (напр., реставрация во Франции после Наполеона). Тут же проф. Гольцендорф выясняет, что гарантия, применяемая к некоторым государствам, отнюдь не должна иметь значения ограничения их независимости, так как смысл ее заключается единственно в ограждении гарантируемого от внешних на него посягательств, и указывает, как на одно из ограничений прав самостоятельности и независимости государств, на институт экстерриториальности.
Относительно права международных сношений (§ 16), автор, упомянувши о том, что лишение его могло бы быть целесообразным средством репрессии по отношению к такому государству, которое совершило бы преступление, противное интересам всего международного общения, рассматривает затем внутреннее содержание указанного права, выражающееся, по его мнению, в ведении дипломатических сношений, в свободном передвижении из одного государства в другое их обоюдных подданных, могущем быть ограниченным лишь в случаях войны, восстания, эпидемии и т. п., в свободе торговли и пользования средствами сообщения – почтой, телеграфом и т. д.
Что касается права на уважение (§ 17), то, указывая на его скорее моральные, чем правовые основы и на преимущественно отрицательный характер (в смысле недопущения актов, оскорбительных для государственного достоинства), автор приводит, в качестве главнейших проявлений этого права, признание неприкосновенности главы государства, а также иностранных знаков верховенства – герба, флага, знамен и т. п., недопущение пристрастного отношения к подданным другого государства, как к таковым, или, с другой стороны, возбуждения этих подданных против их отечественной власти, и, наконец, уважение неприкосновенности государственной территории и границ.
Останавливаясь, в заключение рассматриваемой части, на вопросе о нарушениях основных прав и ответственности за это государств, проф. Гольцендорф отмечает (§ 18) прежде всего, что каждый такой поступок является, в сущности, правонарушением по отношению ко всему международному общению, а затем, указавши на формы ответственности в этих случаях государств (предоставление удовлетворения, возмещение материальных убытков и т. п.), касается также вопроса о том, в какой мере может государство устранять ссылкой на vis major ответственность за неоказание им, при внутренних беспорядках, той защиты иностранным подданным, к которой обязывает его международное право. На этот вопрос автор отвечает в смысле признания таковой ответственности лишь в том случае, если происшедший ущерб мог быть в данном отдельном случае предвиден и предотвращен своевременной помощью или соответственным предупреждением. Вообще же, проф. Гольцендорф безусловно признает ответственность государства за действия своих органов, как таковых, причем отсутствие, с внутренне-государственной точки зрения, ответственности этих органов не имеет в международно-правовом отношении никакого значения.
SIEBENTES STÜCK. STAATSVERFASSUNGEN UND STAATSGEWALTEN IN INTERNATIONALER HINSICHT. VON PROF. DR. FRANZ VON HOLTZENDORFF
SEITE 75–150. §§ 19–34
Следующая VII часть, принадлежащая также перу проф. Гольцендорфа, заключает в себе учение о государственном устройстве и о государственном управлении в международном отношении, разделяясь на три особые главы: о представительной власти (Die Repräsentativgewalt), о государствах с несовершенным суверенитетом (Staaten mit unvollkommener Souveränetät) и о территориальных организациях представительной власти (Die territorialen Organisationen der Repräsentativ gewalt).
Erstes Kapitel. Die Repräsentativ gewalt. Ss. 77–98. §§ 19–23
В первой главе автор, устанавливая то основное положение, что в международном отношении, в отличие от внутренне-государственного, государственная власть может выражаться исключительно в форме единой власти определенных субъектов, – которыми являются прежде всего высшие органы государственной власти, а затем лица, по их полномочию, представляющие их за границей, – указывает (§ 19) в качестве главнейших моментов высшего права представительства на процессуальную безответственность по отношению к иностранной власти, на право ведения всех сношений, на право объявления войны и заключения мира. В этой же главе содержатся общие рассуждения автора об органах и субъектах государственного представительства (§ 20), причем устанавливаются положения о принадлежности представительства в международно-правовом смысле господствующей в данный момент власти, вне всяких соображений о законности ее с государственно-правовой точки зрения, а также и об отсутствии влияния перемен в государственном устройстве или в органах представительства на состояние международных прав и обязательств (§ 21), кроме таких из числа последних, которые теснейшим образом связаны с самой формой правления (напр. о наследовании и т. п.).
Вопросы о титуловании государств и их высших органов представительства (§ 22) и о правовых ограничениях этих органов заканчивают собой содержание рассматриваемой главы (§ 23). По второму из этих вопросов автор указывает, в формальном отношении, на невозможность непосредственного ведения внешних сношений монархами в тех конституционных странах, где существует требование о контрассигнировании министрами важнейших правительственных актов; в материальном же отношении – на возможную зависимость окончательного заключения международных договоров от согласия всех или некоторых законодательных факторов, помимо главы государства, – в частности, в связи с необходимостью ассигнования финансовых средств для тех или иных целей; на ограничения, вытекающие из полной независимости судебной власти, остающейся вне влияния органов представительства; на некоторые специальные ограничения даже и в области управления (напр., в С. Штатах ограничение самостоятельности президента в выборе представителей Штатов за границей) и т. д.
Zweites Kapitel. Staaten mit unvollkommener Souveränetät
Ss. 98–118. §§ 24–27
Обращаясь во второй главе к вопросу о полусуверенных государствах, особенность которых определяется в смысле известной подчиненности таких государств в международном отношении какому-либо другому, при сохранении ими полной самостоятельности в области внутреннего управления, автор указывает (§ 24), как на содержание этой подчиненности, на право покровительства, принадлежащее сюзерену по отношению к полусуверенному, причем отмечает в данном случае то различие между институтом полусуверенитета и институтом являющегося для него прототипом средневекового вассалитета, что последний обязывал вассала помощью своему сюзерену, а идея первого, наоборот, заключается в установлении помощи полусуверенному со стороны сюзерена. По существу проф. Гольцендорф признает целесообразность института полусуверенитета в качестве переходной стадии, в некоторых случаях, к состоянию полного суверенитета и уподобляет его в этом отношении институту опеки в области гражданского права. Обращаясь затем к более подробному изучению внутреннего содержания понятия полусуверенитета (§ 25) автор, твердо устанавливая, как общее правило, одно лишь начало самостоятельности полусуверенного в области внутреннего своего устройства и отмечая неопределенность во многих отношениях этого института, в смысле международно-правовом, признает однако, в частности, право полусуверенного на ведение сношений и заключение договоров, не могущих быть сопряженными с необходимостью осуществления сюзереном своего права покровительства, т. е. преимущественно не политических, и даже возможность для полусуверенного оставаться нейтральным, в случае возникновения у сюзерена войны с третьим государством, если только, конечно, он не обязан помощью на основании договорных постановлений.
Переходя к рассмотрению отдельных полусуверенных государств и отмечая, что положение некоторых из них особенно осложняется возможностью допущения в известных случаях установленной договорным путем гарантии внутренней их самостоятельности против сюзерена со стороны третьих государств, проф. Гольцендорф разбирает в отдельности положение полусуверенных государств сначала европейских (§ 26): из прекративших свое существование – Кракова, Ионических островов, а также и находившейся ранее в состоянии полусуверенитета Сербии, из ныне же существующих – Андорры, Монако, С. Марино и Болгарии; а затем внеевропейских (§ 27): Египта, Туниса, Мадагаскара, Трансвааля, Аннама, Тонкина и Хивы.
Drittes Kapitel. Die territorialen Organisationen der Repräsentativ gewalt. Ss. 118–150. §§ 28–34
Третья глава рассматриваемой части, посвященная вопросу о формах государственного устройства с точки зрения международного права, носит название «территориальные организации представительной власти», из которого, – в связи, в особенности с делаемыми автором в начале главы замечаниями (§ 28), – видно, что в основание всего понятия государственного устройства в международно-правовом отношении проф. Гольцендорфом положен вопрос об организации представительства международного суверенитета. Исходя из этой точки зрения, он и рассматривает, как видно было выше, прежде всего, вопрос о тех ограничениях, которым подвергается это представительство во внутреннегосударственном отношении, затем вопрос о полусуверенитете, как об ограничении органов представительства в международно-правовом смысле, и, наконец, приступает к изучению форм устройства государств, в которых проявляются, по выражению автора, ограничения, основанные на правовых различиях внутренних территориальных устройств и разделений в отношении территориальной силы действия высшей государственной власти.