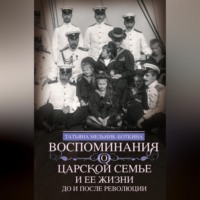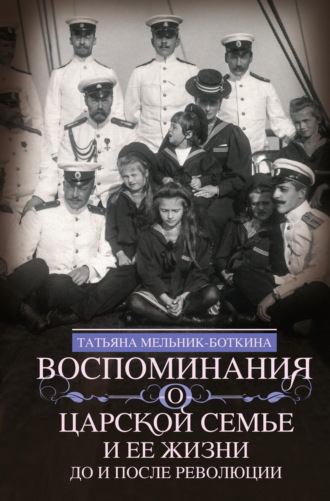
Полная версия
Воспоминания о царской семье и ее жизни до и после революции
К сожалению, я, боясь обыска красноармейцев, сожгла все письма моего отца, а подробный дневник, который он вел во время болезни, остался в Царском Селе.
К декабрю Алексей Николаевич настолько поправился, что царская семья переехала в Царское Село.
С этой зимы при Алексее Николаевиче появилось новое лицо, остававшееся при нем неотлучно, – доктор Деревенко, ассистент профессора Федорова, к которому Алексей Николаевич очень привязался и сын которого постоянно играл с ним.
При великих княжнах состояла гофлектриса и учительница русского языка ее величества, в бытность ее невестой государя, – Екатерина Адольфовна Шнейдер.
Из фрейлин в то время ближе других была Ольга Евгеньевна Бюцова – очень милый, но несколько несдержанный человек; из флигель-адъютантов: Александр Александрович Дрентельн, бывший преображенец, высокого роста, с большой лысиной и красивыми чертами лица, очень образованный и начитанный, большой любитель музыки, умевший на всякого произвести приятное впечатление, и великий князь Дмитрий Павлович[5].
Начальником военно-походной канцелярии был князь Орлов, непомерно толстый человек, которого мой отец очень любил за его сердечность, остроумие и широкую русскую душу.
Дворцовым комендантом был тогда генерал Дедюлин, скончавшийся осенью 1913 года от грудной жабы, и на его место был назначен командир лейб-гвардии Гусарского его величества полка Воейков, человек дельный, но не очень симпатичный, большой карьерист и делец.
Он нашел какой-то удивительный целебный источник в своем пензенском имении, стал посылать воду на исследование, и через несколько месяцев уже всюду появились круглые бутылочки с этикеткой и надписью «Кувака»[6].
Воейков доходил до смешного в рекламе своей чудодейственной воды. Помню, как мой отец рассказывал, что на одном большом выходе подошел к моему отцу великий князь Николай Николаевич и начал у него спрашивать средство для лечения ревматизма.
– Лучшее средство – «Кувака», ваше высочество, – заявил вдруг, бесцеремонно прерывая их разговор, Воейков.
Великий князь обернулся, замолчал и отошел.
В обществе над Воейковым смеялись и находили совершенно неприличным для генерала и дворцового коменданта такую торговлю, но это его нисколько не смущало, и он с гордостью продолжал рассказывать о том, как продал компании «Wagons-Lits»[7] на три года вперед большое количество бутылок «Куваки» и выручил за это 100 тысяч.
Осенью 1913 года мы опять были в Крыму и были однажды приглашены в Ливадийский театр, где приютские дети должны были играть для великих княжон пьесу об избрании царя Михаила Федоровича [на царство][8]. Из великих княжон приехали только Мария Николаевна и Анастасия Николаевна, затем были две дочери великого князя Георгия Михайловича, наследник и сын доктора Деревенко.
Не знаю, кто из нас больше стеснялся – великие княжны или мы; во всяком случае, в антрактах мы не могли связать и двух слов. Один Алексей Николаевич чувствовал себя непринужденно и весело и, играя в антрактах с Колей Деревенко, возился неимоверно, ни минуты не сидя на месте и кувыркаясь то под столом, то на столе. Когда в дверях показывался боцман Деревенько или мой отец, Алексей Николаевич бежал к ним с криком:
– Взрослые должны уйти! – и захлопывал перед ними дверь.
Мы уехали очарованные и были счастливы видеть их высочеств, но не думаю, чтобы они вынесли о нас благоприятное впечатление.
С тех пор как в Ливадии был выстроен новый дворец, их величества и их высочества очень любили ездить туда и делали это два раза в год – весной и осенью.
Ливадийский дворец был единственный, выстроенный государем и императрицей за их царствование по собственному вкусу и соответственно требованиям их семьи. Это было здание белого мрамора в итальянском стиле, с красивыми внутренними двориками, все окруженное цветами.
Громадные клумбы, треугольниками расходившиеся от дворца, еще до Пасхи начинали пестреть коврами желтых и красных тюльпанов, которые сменялись голубыми и розовыми гиацинтами или белыми нарциссами. Позже появлялись глицинии и розы, и весь дворец, точно в сказке «Спящая красавица», утопал в душистых ярко-розовых и желтых гирляндах.
Внизу помещалась белая столовая, она же зала, где для танцев после парадных обедов освобождали место, убирая столы, затем гостиная со старинной итальянской мебелью черного дерева, обитой розоватым шелком, по которому были вытканы темно-лиловые бархатные цветы.
Из гостиной шла галерея с мебелью того же стиля, обитой ярко-желтым штофом. Галерея приводила в официальный кабинет его величества, большую светлую комнату с мебелью красного дерева, обитой зеленовато-серым шелком.
Кроме того, внизу была биллиардная, комнаты великого князя Дмитрия Павловича, одной из фрейлин и Жильяра.
Наверху была маленькая столовая, классная великих княжон, маленький кабинет государя, будуар ее величества, их спальня, спальня их высочеств, классная Алексея Николаевича и гостиная великих княжон, где стояли четыре их письменных столика.
Спальни великих княжон и наследника были как раз против окон старого свитского дома, в котором жил мой отец, так что в теплые летние ночи, когда открыты были все окна, мой отец слышал голос Алексея Николаевича, звавший Дина (так называл он боцмана Деревенько).
Во время пребывания их величеств в Крыму ее величество всегда устраивала базары с благотворительной целью. Впоследствии на деньги, собранные таким образом, а отчасти и на личные средства ее величества был построен в Массандре на берегу моря чудный санаторий, куда во время войны посылались на климатическое лечение раненые офицеры.
Главный доход на этих базарах доставляли собственноручные работы ее величества и великих княжон – очень красивые рукоделия или рисунки. Ее величество замечательно искусно делала акварелью различные виньетки на каких-нибудь пресс-папье, рамочках или коробочках, сразу делавшие скромную вещь заметной своим изяществом и красотой.
За столом с этими вещами всегда ее величество, а также и великие княжны присутствовали сами, и понятно поэтому, что толпа была невероятная и продажа шла с исключительной быстротой.
За другими столами торговали светские дамы, проводившие сезон в Ялте, которых ее величество привлекала таким образом к благотворительности.
Изредка в Ливадии давались балы, отличавшиеся своей простотой и непринужденностью. К сожалению, я была еще очень мала и не видала ни одного бала. Зимой 1913/14 года один маленький бал для подростков был дан у великой княгини Марии Павловны-старшей, куда был приглашен мой старший брат, бывший в то время камер-пажом великой княгини Виктории Федоровны.
Ему очень хотелось танцевать с великими княжнами, но он считал невозможным приглашать их самому, думая, что если им угодно будет, то они его пригласят.
Раз его пригласила княжна Надежда Петровна, дочь великого князя Петра Николаевича, великие же княжны – ни разу. Он был очень огорчен этим, а на следующий день великие княжны выразили неудовольствие моему отцу, так как они считали, что брат нарочно обходил их, великих княжон. По их необычайной скромности им не могло прийти в голову, что мой брат считал невозможным и неприличным первым подходить к ним, и они приняли это как знак пренебрежения.
В конце 1913 или в начале 1914 года Петербург взволновался приездом иностранных гостей – наследного принца Румынского и его молодого сына Кароля.
В городе сразу заговорили о сватовстве, и «Новое время» без всяких пояснений поместило в своем субботнем иллюстрированном прибавлении на одной странице портрет великой княжны Ольги Николаевны, а на другой – принца Кароля.
Рассказам и сплетням не было конца, и мой отец ужасно сердился, когда к нему бежали любопытные с вопросами:
– Ну что, кого из княжон выдают?
– Неужели вы думаете, – отвечал он, – что государь император ходит спрашивать у свиты совета, за кого выдавать дочерей? Да и вообще еще о сватовстве никто не говорит: приехали в гости.
Мой отец считал всегда совершенно недопустимым какие-либо пересуды и сплетни о царской семье, и даже нам, детям, не передавал ничего, кроме уже заведомо свершившихся фактов.
Впоследствии я слышала от других, что действительно принц Кароль приезжал свататься к Ольге Николаевне, но что ему больше понравилась Татьяна Николаевна, а на великих княжон он вообще не произвел особенного впечатления, и поэтому все мирно разъехались, так как государь и императрица настолько любили своих дочерей, что никогда бы не принесли счастье одной из них в жертву политическим интересам, хотя, в свою очередь, дочери готовы были на какую угодно жертву.
Вскоре в Петербург прибыл еще один иностранный гость – король Саксонский.
Я запомнила его приезд потому, что ради него был дан парад всему Царскосельскому гарнизону, а также потому, что о нем самом много тогда говорили. Говорили, что он, может быть, очень добр и мил как человек, но что очень мало образован, груб и нетактичен до крайности, так что совершенно невольно разобидел незаслуженно целую массу лиц свиты.
В день парада, который, как нарочно, выдался яркий и солнечный, все Царское Село было разукрашено бело-зелеными саксонскими флагами. Ярко блестели в весеннем солнце золотые купола церкви Большого дворца, перед которым на плацу уже пестрой лентой стройно вытянулись войска, а на них с любопытством смотрела толпа публики, льнувшая к подъездам и стенам дворца и с нетерпением ожидавшая появления царской семьи.
Вдруг воздух прорезал первый звучный аккорд величественного гимна, и под стройные звуки «Боже, царя храни» показалась из левых ворот группа блестящих всадников.
Впереди в форме конвоя его величества ехал государь. Едва замерли последние звуки «Боже, царя храни», как воздух дрогнул от дружного «ура!», катившегося широкой волной все дальше и дальше по всем полкам и оттуда перешедшего на публику.
Вслед за свитой, сопровождавшей государя, показалась коляска, в которой ехала государыня с наследником, а затем – открытое ландо, где приветливо улыбались из-под больших белых шляп красивые личики великих княжон.
Государыня ехала в экипаже, запряженном à la Daumont, то есть тремя парами снежно-белых лошадей, причем на первой и последней парах сидели жокеи в черных, с золотой бахромой, шапочках, красных куртках, обтянутых рейтузах цвета крем-брюле и низких лакированных сапогах с отворотами. За ландо великих княжон следовали два конвойца.
Объехав войска, вся эта красивая группа двинулась мимо публики, налегавшей друг на друга, чтобы поближе увидеть добрую улыбку проезжающего государя. Государь и свита стали верхами около центрального подъезда Большого дворца, на ступенях которого были приготовлены места для государыни, наследника и великих княжон.
Начался молебен. По окончании его публика, все время молча крестившаяся, вдруг зашевелилась. Из правых ворот показались первые ряды пехоты. Тут были сводный пехотный полк и стрелковая дивизия, затем следовала кавалерия, то есть конвойцы, гусары, кирасиры, казачья конная артиллерия и сводный казачий полк. Каждый был хорош по-своему.
Из пехоты больше всего привлекали внимание барашковые шапочки, малиновые рубашки и русские кафтаны с золотым галуном стрелков императорской фамилии, а кавалерия была так пестра и красива, что в публике все время вырывались крики восторга. Нельзя было решить, кто лучше: стройные конвойцы в черкесках, с тонкими талиями, красавцы гусары в снежно-белых ментиках, обшитых бобром, чуть колебавшихся на их спинах, блестевшие на солнце своими кирасами и грандиозными касками величественные кирасиры или казаки в высоких шапках, лихо заломленных на затылок. Давно не видели такого парада. И кто думал тогда, что это последний парад в этом царствовании?
* * *Лето 1914 года стояло жаркое и душное. Ни одного дождя. Вокруг Петербурга постоянные торфяные пожары, так что и дни и ночи нельзя было отдохнуть от запаха гари. Где-то грохотал гром, и сухие грозы каждый день кружили над Петербургом, не принося облегчения. Собиралась большая гроза, но другого рода.
Все были встревожены убийством сербом наследного принца в Австрии. Все симпатии были на стороне сербов.
Уже с начала Балканских войн[9] говорили сочувственно о южных славянах, считая необходимой войну с Германией и Австрией.
Теперь эти разговоры усиливались; говорили, что Россия должна выступить на защиту своих меньших братьев и освободить и себя, и их от германского засилья. Но были люди, яростно спорившие против подобных планов. Это были крайние правые, которые говорили, что Россия ни в каком случае не должна ссориться с Германией, так как Германия – оплот монархизма, и по этой, а также и экономическим причинам мы должны быть с ней в союзе.
Во время всех этих споров и разговоров в Петербурге шли беспорядки. Рабочие бастовали, ходили толпами по улицам, ломали трамваи и фонарные столбы, убивали городовых. Причины этих беспорядков никому не были ясны; пойманных забастовщиков усердно допрашивали, почему они начали всю эту заварушку.
– А мы сами не знаем, – были ответы, – нам надавали трешниц и говорят: бей трамваи и городовых, ну мы и били.
И в этот самый момент вдруг появился долгожданный манифест об объявлении войны и мобилизации, а австрийские и германские войска показались на нашей территории.
Как только была объявлена война, вспыхнул грандиозный патриотический подъем. Забыты были разбитые трамваи и немецкие трехрублевки, казаков встречали криками радости, а вновь произведенных офицеров качали и целовали им погоны.
По улицам Петербурга ходили толпы манифестантов с иконами и портретами его и ее величеств, певшие «Спаси, Господи, люди Твоя» и «Боже, царя храни». Все бегали радостные и взволнованные. Никто не сомневался, что через три месяца наши победоносные войска будут в Берлине.
При таком настроении публики государь приехал в Петербург читать в Зимнем дворце манифест об объявлении войны. Когда их величества проходили по залам Зимнего дворца, то возбужденная публика, забыв все этикеты, кидалась к ним, обступая их кольцом, целуя руки им обоим и подол платья императрицы, у которой по красивому одухотворенному лицу текли крупные, тихие слезы радости.
Когда его величество вышел на балкон, то вся толпа, запрудившая площадь Зимнего дворца, так что еле можно было дышать, как один человек упала на колени, и все разом подхватили «Боже, царя храни».
Всем, видевшим события 1917 и 1918 годов, трудно поверить, что это была все та же толпа тех же рабочих, солдат и чиновников.
Через несколько дней их величества переехали в Москву. Мы поехали тоже.
В первый же день на пути от вокзала мы встретили манифестацию, но в Москве подъем был значительно меньший. В день чтения манифеста вся царская семья проехала прямо из дворца к Успенскому собору, в котором еще Александр I молился перед началом Отечественной войны [1812 года].
Молебен продолжался долго, но вот, наконец, при звоне колоколов и при ярком свете золотистого августовского солнца, вышли их величества и их высочества из собора и прошли к своим экипажам по высоким мосткам, обитым красным сукном, под которыми колебалось море человеческих голов, волновавшееся и дрожавшее от дружного «ура!».
В 10-х числах августа их величества вернулись в Царское Село и еще больше упростили и без того простой образ жизни своего двора, посвятив себя исключительно работе. Государь лично потребовал, чтобы ввиду продовольственных затруднений был сокращен стол. Стали подавать только два блюда за завтраком и три за обедом. Ее величество, в свою очередь, сказала, что ни себе, ни великим княжнам она не сошьет ни одного нового платья, кроме форм сестер милосердия, да и те были заготовлены в таком скромном количестве, что великие княжны постоянно ходили в штопаных платьях и стоптанных башмаках, все же личные деньги их величеств шли на благотворительность.
В Царском Селе моментально стали открываться лазареты, куда ее величество постоянно посылала вина, лекарства, различные медицинские усовершенствования и дорогие мелочи.
Были открыты комитеты – ее императорского высочества великой княжны Ольги Николаевны (помощь семьям запасных) и ее императорского высочества великой княжны Татьяны Николаевны (помощь беженцам), и великие княжны лично председательствовали на заседаниях и входили во все дела.
Во всех дворцах были открыты склады ее императорского величества, снабжавшие армию бельем и перевязочными средствами. Моментально были оборудованы санитарные поезда имени всех членов царской семьи, образцы чистоты и удобства, подвозившие раненых в районы Москвы и Петрограда.
В течение всей войны, каждое Рождество и Пасху, всем раненым Царскосельского района выдавались великолепные подарки на личные средства их величеств, – как, например, серебряные ложки и вилки с гербами, и, кроме этого, еще устраивались елки с угощением.
Их величества не ограничивались общественной благотворительностью: значительные суммы раздавались нуждающимся раненым так, что, наверное, многие из них и не подозревали, откуда идет им помощь. Еще менее знали об этом в обществе, так как это шло иногда через моего отца, иногда через других лиц, умевших хранить секреты. Между прочим, помогала в этом деле и Вырубова – человек очень щедрый и отзывчивый к чужому несчастью, благодаря чему, после того как во время революции ее выпустили из тюрьмы, она, желая избежать вторичного ареста, находила приют в подвалах и каморках бедняков, когда-то вырученных ею из нищеты.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Построен «п о к о е м» – то есть в виде буквы «П».
2
Члены Собственного конвоя его императорского величества – гвардейских подразделений, осуществлявших охрану государя и членов его семьи. В начале XX в. в императорском конвое состояли четыре сотни казаков – две кубанские и две терские.
3
Деревенько А.Е. – унтер-офицер Гвардейского экипажа русского императорского флота, в 1906–1917 гг. – «дядька» цесаревича Алексея Николаевича.
4
Я люблю вас всем своим маленьким сердцем (фр.).
5
Дмитрий Павлович, сын великого князя Павла Александровича, был двоюродным братом императора Николая II, хотя по возрасту был ближе к детям императора, чем к царственному кузену. Фактически Дмитрий рос сиротой – его мать, греческая принцесса Александра, умерла родами, даже не увидев сына, а отец вскоре был выслан из России за женитьбу на разведенной женщине, бывшей жене своего сослуживца, что членам Дома Романовых не разрешалось. Его детей – Дмитрия и Марию – воспитывали родственники, великий князь Сергей Александрович и его супруга Елизавета Федоровна. Но в 1905 г., когда дети были еще подростками, Сергей Александрович погиб от бомбы террориста, а Елизавета Федоровна, на попечении которой остались Дмитрий и Мария, овдовев, погрузилась в религию и отдавала все силы организации Марфо-Мариинской обители милосердия. Николай II, полагавший, что взрослеющему Дмитрию не хватает мужского влияния, старался уделять юному кузену больше внимания
6
Минеральная вода получила название в честь имения Кувака в Пензенской губернии, где был налажен ее розлив. Так и великий князь Александр Михайлович, разливавший минеральную воду в своем кавказском имении Боржоми, присвоил ей это имя. Но если кавказские минеральные воды были популярны, то над начинанием Воейкова при дворе смеялись и за глаза прозвали его Кувакой.
7
«Compagnie Internationale des Wagons-Lits» – международная логистическая компания, известная в основном своими фирменными поездами. Для обслуживания пассажиров этих поездов и велись поставки минеральной воды «Кувака».
8
В 1913 г. в России торжественно отмечалось 300-летие Дома Романовых, и множество постановок, и профессиональных, и любительских, были посвящены теме избрания первого царя династии – Михаила Романова.
9
Балканские войны – две войны, происходившие в 1912–1913 гг. на Балканском полуострове, в результате чего славянским народам удалось потеснить турок на южноевропейских территориях.