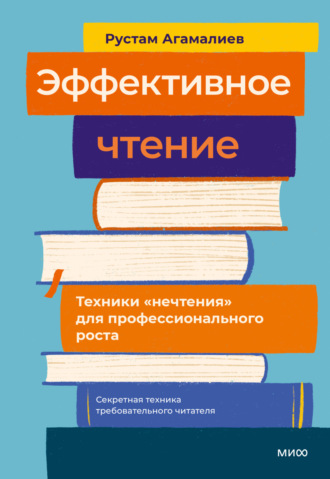
Полная версия
Эффективное чтение. Техники «нечтения» для профессионального роста
Писатели художественной и нехудожественной прозы подходят к написанию текстов с разных сторон. Ученый использует текст, чтобы понять, как работает мир, постичь природу и происхождение тех или иных феноменов, а писатель опирается на эмоции и описывает события в мире, представляя информацию с различных точек зрения. И тот, и другой типы текстов важны, однако читатель воспринимает их разными способами. Разобраться в том, какой текст лежит перед нами, крайне важно еще до начала чтения.
В XXI веке мы стали жертвами информационного взрыва, следствием которого оказалась подмена качества количеством производимого текста, а отсюда произрастают корни еще одного негативного феномена – утраты читателем навыков вдумчивого чтения.
Человек сейчас производит невообразимый объем информационного шума, а читаем мы его так, как научились еще в начальной школе, – строка за строкой. Все, на что падает взгляд читателя, трансформируется из символов на бумаге в мешанину понятий и контекстов в голове – это приводит к информационному отравлению. В таком контексте поговорка «меньше знаешь – лучше спишь» приобретает еще больше смысла. Михаил Наумович Эпштейн, к работе которого мы уже обращались, поставил вопрос гораздо серьезнее: хватит ли человеку, маневрирующему в бесконечном информационном потоке, отведенного природой времени, чтобы обрести идентичность, понять, кто он есть, зачем он здесь и какова его роль? Поиск своего «я» и самоопределения – первейшая необходимость, стоящая за умением читать.
Чтение в XXI веке из относительно простой деятельности превратилось в сложную многоуровневую систему взаимодействия читателя с информацией. Декодирование символов с поверхностей, на которых имеется текст, – лишь отправная точка в сложном процессе понимания. Собственно, вся эта книга – про навыки и стратегии чтения, которые помогают лучше понимать идеи, выраженные с помощью текста.
Все, о чем писала Скарборо в своей научной работе и о чем я пишу здесь, направлено на достижение одной ключевой цели: с помощью текста расширить понимание сути явлений, о которых известно читателю. А это требует от него не только соотнесения букв со звуками, но и использования определенных подходов: интерпретации, детализации, анализа, синтеза, обобщения, рассуждения и трактовки различных идей и мыслей, которые стали ему доступными после прочтения.
Социальный характер чтения
Возможно, один из менее заметных аспектов чтения – общение с другими людьми. Нам свойственно не только изучать что-то новое, но и рассказывать об этом. Не так давно я начал активно использовать ChatGPT в своей деятельности в школе для подготовки упражнений к занятиям или привнесения изменений в существующие учебно-методические комплексы. Использование в привычной деятельности нейронных сетей – не самый сложный процесс, но чтобы он стал известен, о нем необходимо рассказать, и сделать это проще всего с помощью текста.
Получается, что текст – это не просто морфология, синтаксис, графика и фонетика, семантика, набор слов и предложений, а некоторый посредник в общении и распространении идей.
Глава 2. Текст и мышление. Влияние, которое оказывает текст на читателя
Влияние речи на мышление. Или наоборот? – Взаимосвязь речи и мышления: разные подходы и противоположные взгляды. – Интерпретация объективной реальности. – «Зрение чтеца» и структура представления информации. – Отличительная черта текста – предсказуемость. – Речевой стереотип. – Мысленная реконструкция процессов. – Текст – это молоток, который помогает строить образ реальности. – Список литературы
У меня собственный взгляд на то, как чтение влияет на мышление. Я долго думал над этим вопросом, проводил неформальные эксперименты, изучал проблематику, осуществлял педагогическое наблюдение за учащимися, общался с экспертами и сформулировал то, чем хочу поделиться в этой главе. Однако, прежде чем перейти к сути вопроса, расскажу в качестве иллюстрации небольшую историю – результат одного из педагогических наблюдений.
Влияние речи на мышление. Или наоборот?
Я работаю учителем в средней общеобразовательной школе в Зеленоградском административном округе. Среди моих учеников можно встретить разных детей, тем не менее все они так или иначе обладают схожими привычками (например, «впыриваться» в телефон, если им скучно), похожими увлечениями (одни и те же онлайн-игры) и, конечно, близкими интеллектуальными способностями – все в той или иной мере талантливы, но каждый по-своему. Что их действительно объединяет как со сверстниками, так и со старшим поколением, – это улыбчивость. И дети, и взрослые одинаково хорошо реагируют на шутки.
Мне кажется, если и существует универсальный способ передачи идей от человека к человеку, то это юмор. Хорошая шутка может стать прекрасным началом дружбы, снять возникшее напряжение между людьми и послужить поводом задуматься над чем-то серьезным.
На моих уроках нет места скучным самостоятельным, серьезным контрольным, молчаливому переписыванию с доски. Уроки – это место общения и совместного обучения: я учу детей, а в благодарность они учат меня.
На одном из таких занятий мне захотелось узнать что-то новое, и я решил спросить у детей:
– Как вы думаете, что появляется первым – слово или мысль о слове?
Дети моментально ответили хором:
– Слово!
Я улыбнулся и уточнил:
– Хорошо, но разве перед тем, как вы хотите сказать что-то, вы не думаете об этом?
Класс затих, дети задумались и начали обсуждать между собой. Минуты три-четыре они спорили и рассуждали, а затем кто-то из них произнес:
– Наверное, мы сначала думаем, а потом говорим.
Я кивнул:
– Отлично! Вы умные дети, в этом никто не сомневался. Давайте теперь каждый раз, когда хотите что-то сказать, подумайте об этом слове или сформулируйте мысль, а потом произнесите ее вслух.
В классе повисла пауза. В глазах детей появилась растерянность. Они договорились между собой и получили одобрение учителя за то, что они сначала думают, а потом говорят, – а сделать этого не могут. Обсуждение, последовавшее за этим открытием, заняло еще несколько минут. Когда дети пришли к выводу, что чаще всего говорят и только потом думают о том, что сказали, я задал вопрос:
– Так вы вообще не думаете, что ли, когда что-то говорите?
Класс взорвался возражениями:
– Нет, мы думаем! Вы нас неправильно поняли!
Я улыбнулся:
– На самом деле понял я вас правильно. Вы, так же как и большая часть ученого мира, находитесь в некотором замешательстве. У меня есть стойкое мнение, что наука еще не понимает в полной мере, что на что влияет: слово на мышление или мышление на слово. Однако один факт определенно ясен: они взаимосвязаны.
Любой желающий имеет возможность относительно просто найти несколько десятков научных публикаций и книг о том, как работает мышление. Тем не менее, на мой взгляд, ни одна из них не даст более или менее четкого ответа на вопрос, влияет ли мышление на речь или речь на мышление. И это нормально. Человек – загадка, пусть ею и остается, по крайней мере до поры до времени. Мне же интересно, какое влияние речь оказывает на мышление (если оказывает). Ведь текст тоже речь, выраженная в буквах, которые мы каким-то образом соотносим со звуками. То есть можно предположить, что прочитанный текст наравне с услышанным в той или иной мере что-то в нас воспитывает или изменяет.
Что я имею в виду, когда пишу «воспитывает»? Текст, который по факту является письменной речью, влияет на мышление и формирует шаблоны мыслительной деятельности, поведения и восприятия. Гиганты русской школы психологии и педагогики исписали бочки чернил, объясняя, как мышление и речь работают и какое влияние они оказывают друг на друга. Лев Выготский[8], а за ним множество других выдающихся ученых, в число которых входит уважаемый и любимый мной Петр Гальперин[9], провели масштабные исследования того, что на что влияет, но даже они не смогли составить полного представления о том, как взаимосвязаны речь и мышление. Значительная часть современных отечественных и зарубежных научных работ при изучении взаимосвязи речи и мышления ссылается на труды, например, Выготского, но и в них мне сложно найти однозначный ответ, тем более что существуют и другие взгляды.
Взаимосвязь речи и мышления: разные подходы и противоположные взгляды
Если браться за написание этого подраздела со всей серьезностью, обстоятельно и с уважением к мнению каждого автора, о чьих работах пойдет речь далее, то, опасаюсь, нам будет тесно даже в масштабе всей этой книги. Поэтому, чтобы рассмотреть взгляды разных ученых на проблему связи мышления и речи, сосредоточимся только на ключевых аспектах и основных выводах, без углубления в детали и нюансы каждой теории. Это необходимо для экономии сил и времени читателей, которые хотят научиться работать с текстом и информацией.
Лев Семенович Выготский уже был упомянут ранее, однако он не единственный, кто занимался исследованием связи мышления и речи. Наряду с ним аналогичную работу проделали его современники, например Жан Пиаже, а также в какой-то степени последователи, такие как Эдвард Сепир, Бенджамин Ли Уорф и Ноам Хомский. Каждый из этих ученых представил свой взгляд на связь между словами, которые произносит человек, и тем, как он думает. И начать знакомство следует с работ двух современников: советского ученого Льва Выготского и швейцарского психолога Жана Пиаже.
Теории Выготского и ПиажеПредставьте, что вы находитесь в середине хорошо освещенного тоннеля, каждый выход из которого отчетливо виден. Чтобы добраться до него, достаточно пройти небольшое расстояние, однако делать это не приходится: вы стоите на транспортировочной ленте, похожей на ту, что установлена в аэропортах, и эта лента перемещает вас от середины тоннеля к одному из выходов.
Управляют транспортировочной лентой с одной стороны Лев Выготский, а с другой – Жан Пиаже, а вы – это развивающийся мозг ребенка. Пусть тоннель и лента станут метафорой этого подраздела. Если лентой управляет Лев Семенович, то он считает, что речь отвечает за когнитивное развитие, и его край ленты подталкивает вас в сторону Жана Пиаже. Пиаже, как и Выготский, полагает, что речь и мышление неразрывно связаны, но, по его мнению, за развитие речи отвечает мышление, и он толкает ленту в направлении Льва Выготского.
Выготский считает, что речь играет ключевую роль в развитии умственных способностей ребенка[10]. Через необходимость что-то говорить ребенок сначала интериоризирует (превращает речь во внутреннюю), а затем формирует определенные шаблоны мышления, речевые стереотипы и модели поведения, подверженные воздействию социокультурных факторов. Жан Пиаже, в свою очередь, полагает, что речь, которую мы используем для самовыражения, формируется мыслительными процессами. По его мнению, ребенок учится сначала взаимодействовать с миром[11] (он экспериментирует с явлениями), а затем – выражать относительно изученного мысли с помощью речи. Там, где Выготский видит в речи движущую силу развития мысли, Пиаже утверждает, что речь – продукт мыслительной деятельности, и не определяет ее развитие.
Эдвард Сепир и Бенджамин Ли УорфВ то время как Выготский и Пиаже представляли две почти одинаковые теории, различающиеся лишь в том, что один считал, что речь влияет на мышление, а другой – наоборот, Эдвард Сепир и Бенджамин Ли Уорф пошли совершенно иной дорогой. Они создали теорию лингвистической относительности. Эта теория мне настолько нравится, что, несмотря на регулярную критику ее состоятельности, я не теряю надежды, что когда-нибудь кто-нибудь сможет подтвердить обоснованность их выводов.
Согласно теории лингвистической относительности[12], речь и слова, которые мы произносим, не только участвуют в формировании шаблонов мышления, речевых стереотипов и моделей поведения, но и определяют, как говорящий воспринимает реальность. Приведу простой пример, снова используя метафору тоннеля.
Представьте, что теперь вы находитесь в тоннеле не в одиночестве: рядом с вами появился новый человек. Вы ничего о нем не знаете, кроме того, что это англоговорящий иностранец и вы оба участвуете в соревновании по нажатию кнопок. Перед вами огромное табло со счетчиком нажатий, а в руках у вас две кнопки, на которых написано «Да» и «Нет». Ваша задача: при появлении голубого цвета на экране нажимать «Да», а при любом другом цвете – «Нет». Хитрость в том, что «любой другой цвет» – это синий и его оттенки, но не голубой.
Вы уже поняли, в чем подвох? Любой русскоговорящий человек значительно быстрее определит, голубой перед ним цвет или оттенок синего, лишь потому, что он использует слово в своей речи и прекрасно понимает различия между голубым и синим. Настолько хорошо, что даже закодировал их в мнемоническую фразу, расшифровывающую цвета радуги: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан».
Согласно теории лингвистической относительности, речь не только формирует мышление, но и предопределяет, как мы воспринимаем мир. Например, в языке хопи отсутствуют временные категории, что влияет на то, как носители языка воспринимают время. Речь определяет границы того, что позволяет «узнать» мышление. Согласно теории Сепира – Уорфа, именно речь устанавливает границы, в которых функционирует мышление.
Универсальная грамматика Ноама ХомскогоЗамыкает череду гигантов лингвистической мысли Ноам Хомский – американский ученый, который исследовал связь мышления и речи с точки зрения грамматики. Ему удалось сформулировать теорию универсальной грамматики, которая, как и теория лингвистической относительности, регулярно подвергается критике, однако никакая критика не может приуменьшить вклад Хомского в наше понимание того, как взаимодействуют мышление и речь.
По его мнению, базовые мыслительные функции существуют независимо от речи[13]. На основе этого можно предположить, что человек обладает интуитивным пониманием грамматических основ языка, на котором говорит, а возможно, и любого языка вообще. Представим на минуту, что мы закончили наши соревнования по определению голубого цвета с англоговорящим конкурентом, и он пригласил нас в свой тоннель, который находится по соседству. Войдя в него, мы видим, что он значительно отличается от нашего: другие фонари освещения, покрытие пола, кладка кирпича на стене, желтая, а не белая разметка, транспортировочная лента другой модели. Однако мы безошибочно понимаем, где выход, где вход, что отвечает за включение ламп, в каком месте активируется транспортировочная лента, а главное, как ориентироваться в этом пространстве.
Тоннель в этой метафоре – язык, в том числе иностранный, который, согласно теории Хомского, человек понимает на интуитивном уровне; при необходимых усилиях он может выучить любой иностранный язык независимо от того, насколько он отличается от родного. Выучить его можно благодаря врожденному пониманию грамматики и логики языка. Теория универсальной грамматики отражает существующие шаблоны мышления, при которых речь, которую использует человек, лишь незначительно влияет на развитие этих мыслительных шаблонов.
Хомский утверждает, что базовые шаблоны мышления врожденные и если изменяются под воздействием речи, то незначительно. Изменения, скорее всего, касаются особенностей конкретного языка, но не оказывают существенного влияния на имеющиеся шаблоны, а лишь активизируют их функционирование без каких-либо значимых изменений.
Небольшое резюме относительно сказанного вышеСомневаюсь, что мне удастся разобраться в этом вопросе лучше Выготского, Пиаже, Хомского и Сепира с Уорфом, однако я преследую другую цель – интерпретировать их идеи в новом свете. Бережно перенести принципы, которые описали ученые, на работу с информацией. Найти практическое применение теоретическим представлениям о связи речи и мышления. Заложить крепкий фундамент, который выдержит разнообразные подходы, помогающие чтецу максимально эффективно перерабатывать прочитанное, услышанное и увиденное.
Интерпретация объективной реальности
Но прежде чем идти дальше, приведу два тезиса, которые лягут в основу дальнейших рассуждений относительно связи речи и мышления.
1. Не полагайтесь на чувство интуиции – оно не более чем интерпретирует сигнал извне.
2. Знание какого-то факта недостаточно для понимания.
Реальность однозначна, мир и происходящие в нем события объективны и существуют, а вот наше взаимодействие с ним – это эксперимент, в ответ на который мы получаем результат. Чтение – это тоже эксперимент с мыслями и идеями автора. Взаимодействие с текстом, который кем-то написан, а читателем прочитан.
Это означает, что два читателя, прочитав один и тот же текст, интерпретируют его в соответствии со своими представлениями. Они возьмут то, что смогут понять и осознать, и встроят это в свою картину мира, а она у всех разная. При этом наивно предполагать, что прочтение слов, которые написаны в тексте, отличается от чтеца к чтецу. Всё одинаково: опыт в моменте универсален и по большей части идентичен. Для любого человека «м» и «а» складываются в слог «ма», а два таких слога – в слово «мама». Однако понимаем мы это слово по-разному. И это естественно: читатель наполняет информацию смыслом исходя из своего образования, воспитания, возраста, пола… Даже настроение во время прочтения может сыграть роль в том, как воспринимается текст.
Слова, передаваемые текстом, одинаковы для каждого читателя, а вот их интерпретация отличается. Если с помощью текста распространяется информация о чем-то теоретическом или абстрактном, например о времени, эмоциях, чувствах, то оперировать этими понятиями следует с предельной осторожностью, потому что для каждого читателя это разные понятия.
Расскажу историю о том, как неверная интерпретация информации создала сначала непонимание, а затем конфликт. Некоторое время назад я увлекался проведением встреч, на которых под запись обсуждал с гостями различные темы: от истории семьи и стоицизма до письменных практик, продуктивности и заметковедения. Один из моих подписчиков предложил пригласить эксперта в изучении английского языка, который, по его мнению, создал уникальную методику преподавания. Конечно, мне это было интересно, ведь я сам преподаю иностранный язык. Однако все, что я изучал относительно подходов в обучении за последние годы, оказывалось переработанными идеями педагогов прошлого: Е. И. Пассова, М. И. Махмутова, Е. Н. Солововой, Н. И. Гез, Н. Д. Гальсковой и прочих гигантов педагогической мысли.
Когда на встрече я слушал гостя, сначала у меня возникли сомнения относительно его методики, которые позже переросли в открытую оппозицию. Это случилось только потому, что мы обсуждали методику преподавания иностранного языка в слишком абстрактных терминах, говорили об инструментах, которые трудно встретить в реальной жизни, приводили в качестве примеров аналогии из спорта. Разговор в числе прочего шел о работе мозга, которую, в соответствии с утверждениями гостя, можно настроить для более эффективного изучения языка. Прошло больше двух лет с того спора, а я все еще не понимаю предложенного им подхода. Думаю, причина моего непонимания кроется в том, что собеседник изложил свою систему на слишком высоком уровне абстракции.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Notes
1
Scarborough H. S. et al. Connecting early language and literacy to later reading (dis)abilities: Evidence, theory, and practice / / Approaching Difficulties in Literacy Development: Assessment, Pedagogy, and Programmes. 2009. Р. 23–39.
2
Со шрифтом Propaniac Regular можно ознакомиться на сайте oFont.ru. URL: https://ofont.ru/view/5682 (дата обращения: 11.09.2023). Здесь и далее прим. автора, если не указано иное.
3
Ahrens S. How to Take Smart Notes: One Simple Technique to Boost Writing, Learning and Thinking – for Students, Academics and Nonfiction Book Writers. North Charleston: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017. 176 р. (Издание на русском языке: Аренс З. Как делать полезные заметки. Эффективная система организации идей по методу Zettelkasten / пер. Е. Свешниковой. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2021. 224 с.)
4
Welch A., Duffield S. The Impact of the Cornell Note-Taking Method on Students’ Performance in a High School Family and Consumer Sciences Class. URL: https://www.academia.edu/12037972/The_impact_of_the_Cornell_note_taking_method_on_students_performance_in_a_high_school_family_and_consumer_sciences_class (дата обращения: 28.01.2025).
5
Эпштейн М. Н. Информационный взрыв и травма постмодерна / / Русская классическая школа: образовательная система. URL: https://russianclassicalschool.ru/bibl/istoriya-metodik/istoriya-razvitiya-obrazovaniya/item/1647-m-n-epshtejn-informatsionnyj-vzryv-i-travma-postmoderna.html (дата обращения: 03.04.2022).
6
Data Never Sleeps 10.0 | Domo: сайт. URL: https://www.domo.com/data-never-sleeps (дата обращения: 11.09.2023).
7
Джеймс Клир – американский бизнесмен, коуч, автор блога по самосовершенствованию и формированию привычек. Прим. ред.
8
Выготский Л. С. Мышление и речь. М.: Лабиринт, 1999. 352 c.
9
Гальперин П. Я. Четыре лекции по психологии. М.: Университет, 2000. 112 c.
10
Выготский Л. С. Мышление и речь. М.: Лабиринт, 1999. 352 c.
11
Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. М.: АСТ, 2022. 416 с.
12
Уорф Ли Б. Язык, мышление, действительность / пер. В. И. Фролова. М.: АЛЬМА МАТЕР, 1956. 410 c.
13
Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, Mass: M. I. T. Press, 1969. 251 p.



