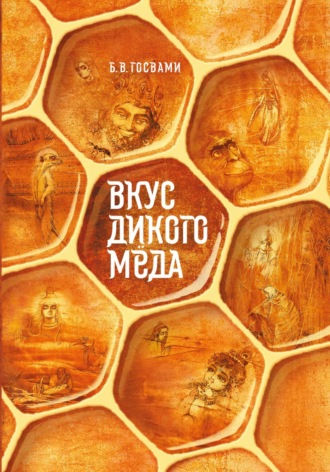
Полная версия
Вкус дикого мёда
асато ма cад гамайа
тамасо ма джйотир гамайа
мритйор мамритам гамайа
Веди меня от временного к вечному.
Веди меня из тьмы к свету.
Веди меня из смерти к бессмертию5.
Не исполнение мелочных материальных желаний, но решение главной проблемы человека, проблемы смерти, – вот главная тема и смысл Упанишад. Поэтому другое название для всех Упанишад – Веданта, «заключение, венец Вед».
Упанишады, так же как и самхиты (собственно Веды), относятся к категории шрути – откровения. Их мантры не созданы обычными людьми, но услышаны (а вернее, увидены) великими мудрецами в состоянии транса. Само слово упанишад означает «секретное знание». Под познанием в ведической культуре подразумевалась не механическая передача информации, а приобщение к живому духовному опыту. Неисчерпаемо многозначные мантры Упанишад были всего лишь звуковой формой, в которую облекался опыт, а носителем опыта был духовный учитель, гуру. Поэтому ученичество не сводилось к формальному изучению буквы писаний – строгое следование обетам, которые ученик давал гуру, должно было очистить его сознание и подготовить к восприятию откровения.
Упанишады неслучайно назывались «тайным знанием». Понять их смысл невозможно с помощью одной логики. Парадоксальные афоризмы Упанишад – предмет медитации, а не логического анализа. Даже аллегорические истории и притчи, включенные в их состав, нуждаются в расшифровке и имеют множество толкований. Поэтому сами Упанишады тоже были мало кому доступны. Но те же самые истины, которые открывались брахманам в результате медитации на ведические мантры и размышления над смыслом парадоксов Упанишад, подаются обычным людям в виде увлекательных рассказов из Пуран и великих исторических хроник, Итихас6*, – «Рамаяны» и «Махабхараты».
Строго говоря, эти книги не относятся в Ведам, но они являются естественным продолжением Вед, специально предназначенным для тех, кто не склонен к абстрактным философским рассуждениям и медитации, поэтому их иногда называют пятой Ведой7. Именно истории из Пуран и Итихас легли в основу того, что мы сейчас называем ведической культурой. На них воспитывались и выросли многие поколения людей в Индии. И уж тем более для нас, людей, воспитанных в культуре Запада, не сами Веды и Упанишады, а эти истории являются единственным ключом к ведическому наследию. Но даже их понять и оценить по достоинству подчас нелегко.
Случайного читателя сюжеты Пуран и Итихас, скорее всего, поставят в тупик. В лучшем случае он решит, что это непонятные аллегории, в худшем – примет за сказки, не заслуживающие к себе серьезного отношения. Некоторые из историй действительно являются притчами и не должны пониматься буквально. Другие описывают реальные события, происходившие в незапамятные времена как на Земле, так и на иных планетах вселенной с людьми, обладавшими сверхчеловеческими способностями. Но и те и другие объясняют нам, как действует наш ум, и позволяют яснее увидеть и понять наши проблемы. Уже в те далекие времена, когда создавались эти произведения, было ясно, что научить людей чему бы то ни было легче всего с помощью историй.
Согласно этимологическому словарю «Нирукта»8**, санскритское слово пурана означает пура навам – «истории глубокой древности, вечно сохраняющие новизну». Иными словами, истории, запечатленные в священных писаниях, представляют собой вневременные сюжеты, которые содержат ответы на вечные вопросы, встающие перед каждым человеком. Проживая события, описанные в Пуранах и Итихасах вместе с их героями, мы можем понять, как работает сознание, и отделить себя – вечную душу – от своего ума с его бессознательными инстинктами выживания и механизмами самообмана. Примерно то же самое позволяет сделать современный психоанализ и другие психотерапевтические техники. С их помощью можно со стороны посмотреть на программы, записанные в уме, и оценить их с точки зрения цели, которой мы хотим достичь. Однако при полном погружении в рассказы Пуран эти истории дают нечто несравненно большее: они вкладывают в сердце новые идеалы и ценности, заменяя вожделение, гнев, жадность, эгоизм, гордыню, зависть на сострадание, смирение, терпение и верность и таким образом подготавливают нас к нисхождению любви. Герои «Рамаяны» и «Махабхараты» —Рама, Сита, Лакшман, Хануман, Юдхиштхира, Бхима, Арджуна, близнецы Накула и Сахадева, Драупади, мудрый Бхишма и Сам Кришна – своими словами и поступками учат нас, как победить в битве со злом, которая постоянно идет в нашем сердце. Именно поэтому в ведическом обществе не существовало науки психологии в том виде, в каком мы знаем ее сейчас, а роль психотерапевтов с гораздо большим успехом играли святые люди, брахманы и духовные учителя, сохранявшие в своих пересказах живыми истории из Пуран, «Рамаяны» и «Махабхараты».
Восемнадцать главных Пуран записаны легендарным мудрецом Вьясадевой в конце Двапара-юги – бронзового века истории человечества. Огромные по размеру (около четырехсот тысяч стихов на санскрите), они повествуют о сотворении материального мира из первоэлементов, происхождении разных видов живых существ и планетных системах, видимых нам и недоступных нашему взору, из которых состоит наша вселенная. В них рассказывается о законе кармы, управляющем людьми, о гигантских исторических периодах, отделенных от нас миллионами лет, и о различных воплощениях Господа, в которых Он приходит в этот мир. Большое место в них отводится историям о подвигах великих царей прошлого и о частичном и полном разрушении мира в конце каждого цикла творения. Наконец, в них рассказывается о посмертных скитаниях души, о том, как освободиться из круговорота рождений и смертей, и о духовном царстве Бога, простирающемся за пределами мира материи9*.
«Рамаяна», поэма, созданная мудрецом Вальмики, рассказывает историю Рамы – Господа, воплотившегося в облике царевича одной из древних династий. Это история любви Ситы и Рамы – любви, которая встретила на своем пути множество препятствий, но преодолела их все и стала только чище и глубже. На Своем примере Рама показывает, как закалять сердце, соблюдая законы чести и ни на йоту не отступая от справедливости, чтобы в конце концов победить многоликое и ненасытное вожделение, воплощенное в поэме в образе демона Раваны. Только победив вожделение, человек может понять, что такое чистая духовная любовь, – это главный урок «Рамаяны».
«Махабхарата» – самый большой эпос мира: она в семь раз длиннее «Илиады» и «Одиссеи», вместе взятых – сто тысяч стихов на санскрите! Так же как и Пураны, она написана Вьясадевой. Эта великая книга заложила основы ведической культуры в том виде, как мы ее знаем, поэтому ее часто называют «пятой Ведой». Сюжет «Махабхараты» – вражда между двоюродными братьями, наследниками престола великого царства Куру, и выпавшие на долю пятерых царевичей, братьев Пандавов, испытания, которые привели к братоубийственной войне на поле битвы Курукшетра. Именно там перед началом сражения среднему из Пандавов, Арджуне, была рассказана «Бхагавад-гита». Главная тема эпоса – отношения Пандавов с еще одним великим воплощением Бога – Кришной, их любовь к Нему и готовность пожертвовать всем ради Него. Однако по ходу повествования Вьясадева то и дело отвлекается от основной сюжетной линии: он рассказывает истории о великих мистиках и мудрецах, легенды, связанные со святыми местами, объясняет, как лечить болезни и практиковать йогу, говорит о реинкарнации, влиянии звезд и многом-многом другом. Поистине, «Махабхарата» – грандиозная энциклопедия ведической культуры. «Того, чего нет здесь, нет нигде»10, – гордо пишет о ней сам ее автор. К сожалению, множество побочных историй иногда заслоняют от читателя суть и мешают понять ее главный смысл.
Это побудило Вьясадеву создать свое последнее творение, «Шримад-Бхагаватам» – «Прекрасное повествование о Боге». Хотя «Шримад-Бхагаватам» написан в жанре Пуран и является одной из них («Бхагавата-пурана»), он значительно отличается от остальных по изяществу стиля и философской глубине. Как и другие Пураны, «Бхагаватам» описывает космологию, разные формы медитации, йогу и проч., однако единственная тема этого произведения – чистая любовь к Богу, или бхакти-йога. Все остальные предметы затрагиваются в нем только в контексте главной темы и в связи с ней. Чтобы раскрыть тему любви к Богу, «Бхагаватам» во всех подробностях рассказывает историю жизни Кришны – Самогó Верховного Господа, приходившего на Землю пять тысяч лет назад. Подробнее всего Вьясадева описывает ранние годы Кришны, проведенные во Врадже, деревне простых пастухов.
Если другие ведические писания объясняют, как очистить сердце от держащих нас в материальном плену грубых эмоций (вожделения, гнева, жадности, зависти и проч.), то «Шримад-Бхагаватам» открывает доступ к возвышенным духовным эмоциям. Бесхитростная любовь обитателей Враджа к Кришне, в личности которого тесно переплелись божественное могущество и человеческая уязвимость, – высочайший идеал духовной любви и лучшее лекарство от материальной зависимости. Едва ли человечество знает другую такую книгу, в которой пронзительные описания любви столь органично сочетались бы с бездонной философской глубиной. Величайшие ученые и философы Индии соревновались между собой в попытках объяснить смысл этого произведения – на него написаны десятки подробных комментариев на санскрите и несколько на современных языках11. Среди знатоков Вед даже бытует поговорка: видйаватам бхагавате парикша – «Ученость человека проверяется его способностью объяснять смысл стихов “Бхагаватам”».
Все эти произведения написаны на санскрите – древнем языке ведической традиции, прародителе индоевропейских языков. О нем следует сказать особо. Сэр Вильям Джонс, один из первых западных санскритологов, писал:
«Санскрит, при всей своей древности, обладает удивительно развитой структурой. Он совершеннее, чем древнегреческий, богаче, чем латынь, и более выразителен, чем они оба. При этом он обладает поразительным сходством с обоими языками по глагольным корням и грамматическим формам, которое никак не могло возникнуть случайно. Сходство это столь велико, что ни один филолог, изучавший все три языка, не усомнится в их происхождении от общего корня – древнего языка, вероятно уже не существующего».
Любой язык является отражением опыта людей, говорящих на нем. Необычайное богатство санскрита – самое убедительное свидетельство богатства опыта людей ведической культуры, глубины и разнообразия их мироощущения. Так, одних слов, означающих «земля», в санскрите шестьдесят пять. Слово «вода» имеет семьдесят синонимов, «огонь» – тридцать пять. И это без учета производных слов, образующихся с помощью приставок или суффиксов. Причем ни один из синонимов не является избыточным – каждый из них отражает какую-то характерную сторону данного явления. Поэтому, например, слово «любовь» имеет в санскрите более двухсот значений, описывающих разные оттенки и проявления этого чувства.
Надо сказать, что вся ведическая культура была, по преимуществу, фонетической. Пожалуй, ни в одной другой культуре не придавалось такого значения правильности и чистоте произнесения звуков. И на то есть очень важные причины. Звук, в соответствии с метафизикой Вед, является изначальным и самым тонким элементом материального творения – поистине, в начале было слово. Открытия квантовой физики в XX веке подтвердили это: на элементарном уровне частицы материи приобретают свойства волны.
Фонемы санскритского алфавита называются акшарами, что значит «неуничтожимые». Это не просто бессмысленные слоги – каждый из них имеет смысл, расшифрованный в специальных словарях – «Эка-акшара-коша» (Словари слогов). Таким образом, санскритские слова, состоящие из фонем, имеют не просто условное значение, но несут в себе отпечаток смысла отдельных слогов.
Другое название слогов санскритского алфавита – варна, что буквально значит «цвет». Это означает, что на более тонком уровне восприятия звуки имеют цвет и могут быть увидены. На этом уровне образ и звук сливаются друг с другом. Погружаясь в медитацию, ведические мудрецы, риши, открывали звуки, лежащие в основе вещей нашего мира. Само санскритское слово риших (мудрец) означает мантра-драшта – «тот, кто увидел мантру». Точно так же провидцы могли видеть и слышать вибрации, исходящие, например, от каждого органа человеческого тела.
Интересно, что местоимение «я» на санскрите звучит как ахам, где «а» – первая фонема санскритского алфавита, а «ха» – последняя. Идея в том, что человек – венец творения – есть средоточие всех возможных звуков от «а» до «ха». Семь чакр, тонких энергетических центров, расположенных вдоль позвоночника и управляющих всеми органами человека, графически изображаются в виде лотосов с разным количеством лепестков, и каждый лепесток этих чакр резонирует с одним из пятидесяти четырех звуков санскритского алфавита. Это превращает фонемы санскрита из бессмысленных звуков в священные мантры. Так из понимания первичности звука и представлений о его могуществе возникла особая форма йоги – йога звука, или нада-йога.
Согласно Ведам, любой звук проявляется на четырех уровнях. Вайкхари, материальный звук, различимый на слух, – это всего лишь самый грубый уровень проявления звука. Тоньше него вибрация мысли – мадхьяма. Еще более тонкий уровень звука называется пашьянти – это вибрация на уровне идеи или образа. И наконец, четвертый уровень называется пара – тончайшая духовная вибрация, источник и причина материального творения. Человек, практикующий нада-йогу, или мантра-йогу, может постепенно, повторяя мантру, возвысить свое сознание и перейти из сферы грубого материального звука в духовный мир, где нет различия между звуком и предметом, который он обозначает.
Но, разумеется, санскрит не только язык магических заклинаний и мантр. Один из самых точных языков мира, он способен передавать тончайшие оттенки смысла и потому идеально приспособлен для передачи философских идей и сложных логических умозаключений. А еще санскрит – язык, как будто специально созданный для поэзии. Санскритские грамматисты описали более восьмисот стихотворных размеров и дали им названия. Практически все ведические книги, даже труды по математике, астрологии и аюрведической медицине, написаны стихами. Вот что в ХI веке писал об этом Аль-Бируни, исламский ученый-энциклопедист, проведший в Индии около тринадцати лет:
«За ней следует наука чхандас – это разделение стихов по размерам, соответствующее нашей метрике ['аруд], – без которой индийцы не могут обходиться, ибо их книги составлены в стихотворной форме с той целью, чтобы можно было легко заучить их наизусть и не прибегать в вопросах любой науки к книгам, разве что при крайней необходимости. А причина этого кроется в том, что сердце человека любит все, что имеет симметрию и порядок, и питает отвращение ко всему лишенному порядка. Поэтому можно видеть, как большинство индийцев привержены к стихам и очень любят декламировать их, даже если не понимают их смысла; а их слушатели при этом будут щелкать пальцами, тем самым выражая радость и одобрение. Прозаические произведения их не привлекают, хотя их легче понять» 12 .
Включив в книгу стихи и афоризмы из санскритских первоисточников, я рассчитывал усилить эффект соприкосновения читателя с этой удивительной культурой. Стихи на санскрите можно пропускать, а можно пробовать на слух и вкус, ловя в их звуках и ритмах ускользающие оттенки смысла самых древних священных писаний человечества.
***
Испокон веков учителя ведической традиции рассказывали истории из Пуран и Итихас своим ученикам. Слушание этих историй и размышление над ними воспринималось не как приятное времяпрепровождение, но как могущественная форма медитации, меняющая человека изнутри. Чанакья Пандит, собравший правила поведения людей ведического общества в виде стихотворных пословиц, подчеркивает необходимость подобной медитации в парадоксальном афоризме:
«Утром мудрые беседуют об игре в кости, днем – о женщинах, а по вечерам – о воровстве. За этими рассказами проходит их время» 13 .
Человек, хотя бы немного знакомый с ведическими писаниями, сразу поймет, о чем идет речь. Утром Чанакья советует слушать истории из «Махабхараты», центральным эпизодом которой является игра в кости между Юдхиштхирой и шулером Шакуни. В послеобеденное время следует читать о любви Ситы в разлуке с Рамой из «Рамаяны», а по вечерам – слушать рассказы из «Шримад-Бхагаватам», в которых описываются детские игры Кришны, воровавшего масло в домах пастушек Враджа.
Если верить пословице Чанакьи Пандита, истории и притчи из священных писаний помогают стать мудрее. На это я и рассчитывал, когда решил пересказать для современного человека ведические истории – в Пуранах написано, что самое большое благо от этого получает рассказчик. Думаю, что в книгу вошли не слишком известные истории из Упанишад, Пуран и Итихас. Я по возможности избегал историй, которые у всех на слуху, чтобы даже тем, кто знаком с традицией, было интересно. К историям из писаний я добавил несколько рассказов из устной традиции, чтобы читатель мог составить более или менее законченное представление о культуре Вед. Обрамив все истории небольшими комментариями, я попытался придать повествованию целостность и помочь людям, воспитанным в другой культуре, лучше понять их смысл. При этом, насколько возможно, я старался избегать назидательности. Мне больше по душе роль не наставника, а гида, пытающегося обратить внимание на детали, которые почти наверняка ускользнут от того, кто только начинает свое знакомство с ведической традицией.
Сначала я думал, что напишу книгу из трех частей. В первую должны были войти притчи и истории из Вед, «Махабхараты» и Пуран, во вторую – истории про Кришну, помимо тех, что рассказываются в «Шримад-Бхагаватам», а в третью – рассказы о великих поэтах, мудрецах и святых ведической традиции. Однако по мере написания каждая часть разрослась, так что получилось три отдельных книги. Первую из них вы держите в руках. С замиранием сердца я отдаю ее на ваш суд. Примерно так чувствует себя человек, решивший показать близкому другу места, в которых проходило его детство, – ему очень хочется поделиться своей любовью к ним, хотя он и понимает почти полную безнадежность этой затеи. И все же желание пересиливает. Он берет своего друга за руку и вместе с ним отправляется в путь…
ГЛАВА ПЕРВАЯ. Цена настоящего счастья
Главный вопрос, на который отвечает «Шримад-Бхагаватам»: «Что есть высшее благо для человека?» Его задают Суте Госвами, рассказчику «Бхагаватам», мудрецы, собравшиеся в святом месте – лесу Наймишаранья. Если перевести этот вопрос на нефилософский язык, то он будет звучать проще и привычнее: «Как стать счастливым?» В сущности, все люди только тем и занимаются, что ищут ответ на него. Умные в своих поисках читают ученые книги и изучают философию, а глупые спешат поделиться со всеми готовыми рецептами дешевого счастья. Но и те и другие на поверку оказываются несчастными. Об этом парадоксе в «Шримад-Бхагаватам» говорит мудрый Видура:
«Все в этом мире трудятся не покладая рук, чтобы стать счастливыми, но никто не только не обретает счастья, но даже и от страданий не избавляется. Более того, чем упорнее люди трудятся, чтобы стать счастливыми, тем несчастнее становятся. Будь добр, объясни мне, почему так происходит. И расскажи, какой путь ведет к счастью». 14
По крайней мере, умные понимают, что если бы ответ на этот вопрос был так очевиден, как кажется глупым, то счастливых людей на свете было бы гораздо больше. В своих попытках докопаться до истины они рано или поздно приходят к выводу о том, что сначала неплохо бы ответить на другие вопросы: «кто я?», «зачем я живу?», «есть ли Бог?», «почему я страдаю?», «свободен ли я поступать, как мне вздумается?», «от кого зависят результаты моих поступков?», «что такое счастье?» – и только потом уже отвечать на самый главный – «как стать счастливым?».
Вопросы эти принято называть проклятыми, потому что они якобы «неразрешимы для ума и мучительны для сердца». На самом же деле людям просто очень трудно согласиться с теми ответами, которые найдены задолго до их появления на свет. Поэтому каждое новое поколение снова ломает голову над «проклятыми» вопросами, и каждое новое поколение уверено, что именно оно сможет найти формулу счастья. Однако счастливых в мире больше почему-то не становится. Так стоит ли изобретать велосипед? Может быть, лучше прислушаться к мудрецам ведической древности и попытаться примерить их ответы к своей жизни? Тем более что они, уважая нашу независимость, не давали прямых нравоучений, а облекали свои ответы в истории и притчи.
Таинственный Якша 15
В детстве я очень любил ездить с родителями в Петергоф – бесконечные фонтаны, белоснежные статуи с их откровенной, волнующей наготой, в самом центре – золоченый Самсон, картинно разрывающий пасть льву, сразу за ним бесконечная даль Финского залива, а над всем этим пронзительно синее летнее небо с клубящимися облаками – как будто безумный скульптор загляделся на эту красоту и решил воспроизвести ее на небесах.
Из фонтанов, конечно же, самыми любимыми были фонтаны-шутихи, а из всех шутих – фонтан «Камни». Он представлял собой нагромождение булыжников, по которым полагалось бегать, нажимая на них, и иногда откуда-то из-под земли, из ее первобытных недр, вдруг начинали бить струи воды. В этот момент дети, носившиеся по камням, с визгом и смехом разбегались, чтобы снова вернуться, когда струи улягутся. Каждый ребенок при этом был абсолютно уверен, что именно ему удалось найти тот волшебный камень, от нажатия на который забили струи. Оставалось только проверить свое открытие. А то, что в следующий раз обнаруженный камень не работал, каждый объяснял по-своему. Словом, все расходились от фонтана мокрыми и счастливыми.
Много лет спустя я снова приехал в Петергоф, снова гулял по французскому парку, глядел на фонтаны, сросшиеся с детством, и на клубящиеся в небе облака и, конечно же, набрел на «Камни». Как всегда, здесь носилась стайка детей, и, как всегда, струи воды непредсказуемо, как в жизни, начинали бить из-под земли. Я стоял в стороне и наблюдал за игрой детей. Мне показалось даже, что я помню, какой именно из камней был тем самым волшебным.
Вокруг фонтана на скамейках сидели родители, терпеливо ожидавшие, когда их дети вдоволь наиграются и вымокнут. Оглядывая сцену, я увидел на стульчике рядом старичка в картузе. Он сидел, непричастный к восторгам, и скучающе читал газету. Со стороны нетрудно было заметить, что взрыв детского визга и хохота раздается как раз тогда, когда он как бы невзначай поворачивает замаскированный рычажок под ногой. Так в моей жизни стало одной иллюзией меньше.
Я задал себе вопрос: а почему же раньше мне даже в голову не приходило, что секрет фонтана не во мне, а в старичке? Ответ нашелся сразу: потому что, когда я сам бегал по камням, я был слишком увлечен идеей, что никто другой не может быть причиной этого чуда. Другие варианты меня просто не интересовали. В этот момент мне невольно вспомнилась история из Упанишад.
В те незапамятные времена, когда мир был только что сотворен и богатства его еще не были поделены, полубоги, или деваты, как их называют в Индии, то и дело сражались с демонами за власть во вселенной.
Согласно древним хроникам, полубоги и демоны происходят от одного отца и разных матерей. Иначе говоря, относительные добро и зло этого мира находятся между собой в кровном родстве. Это не мешает им соперничать за власть в материальном мире и в нашем сердце. Но в силу их кровного родства победившее добро то и дело оборачивается злом, а побежденное зло начинает прикидываться добром, так что подчас бывает трудно отличить одно от другого. Единственный верный признак, по которому относительное добро можно отличить от относительного зла, а полубогов от демонов, – это то, что полубоги обычно готовы принять наставления Бога и попытаться исправиться, а демонам это очень трудно сделать: добро до какой-то степени понимает свою относительность, тогда как относительное зло всегда претендует на статус абсолютного блага.
Но вернемся к нашей истории. Во время одной из таких войн деваты наголову разбили демонов. О, как же гордились они своей победой! Да и как им было не гордиться? Битва выдалась жаркая, не на жизнь, а на смерть, и победа досталась деватам с большим трудом. Они упивались своим величием, чествовали друг друга и превозносили до небес. И конечно же, каждый втихомолку думал, что именно его подвигам в этой войне полубоги обязаны своей победой.

