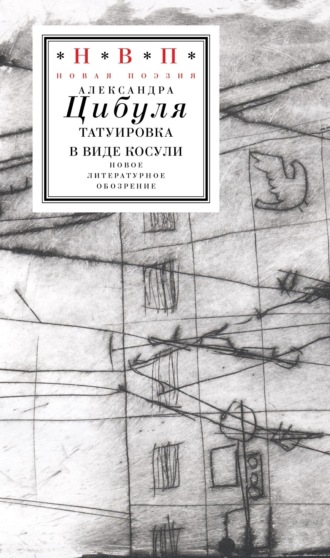
Полная версия
Татуировка в виде косули

Александра Цибуля
Татуировка в виде косули. Стихи 2021—2024
УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6
Ц56
Предисловие И. Булатовского; послесловие П. Барсковой
Александра Цибуля
Татуировка в виде косули: стихи 2021—2024 / Александра Цибуля. – М.: Новое литературное обозрение, 2025. – (Серия «Новая поэзия»).
В новой книге, в которую вошли тексты 2021–2024 годов, Александра Цибуля продолжает заявленную ранее линию уязвимой, хрупкой поэтики. Увлечение визуальностью сменяется бо́льшим вниманием к телесности; детали мира становятся микрособытиями, подрывающими спокойствие психической реальности. Ближе к февралю 2022‑го в текстах с заметной регулярностью появляются даты, но указывают они не на исторические события, а на странные «эманации мира». Постепенно лирический взгляд оказывается вытолкнут в область политики. Александра Цибуля – поэт, исследовательница современной литературы и искусства. Автор поэтических книг «Путешествие на край крови» (2014) и «Колесо обозрения» (2021). Публиковалась в журналах «Новое литературное обозрение», «Воздух», «Новый мир», «Новый Берег», «Носорог», «Волга», «Зеркало», «World Literature Today», антологиях «Поэзия последнего времени» (2022), «This Is Us Losing Count: Eight Russian Poets» (2022), «Verses on the Vanguard» (2022). Стихи переводились на английский, финский, корейский, итальянский языки. Участвовала в международных литературных фестивалях в России, Финляндии, Южной Корее, США. Участница индивидуальной резиденции в Переделкине (2021, 2024). Лауреатка Премии им. А. Т. Драгомощенко (2015). Живет в Санкт-Петербурге, работает в музее.
В оформлении обложки использована гравюра Александры Гарт, 2024.
ISBN 978-5-4448-2823-6
© А. Цибуля, 2025
© И. Булатовский, предисловие, 2025
© П. Барскова, послесловие, 2025
© Л. Павлова, фото, 2025
© А. Гарт, гравюры, 2024
© И. Дик, дизайн обложки, 2025
© ООО «Новое литературное обозрение», 2025

Ботаника сопротивления
Здесь много цветов, и вообще растений. Их названия нередко прокладывают дорогу собственно слову, проводят его в стихи. Подменяют его, пока оно медлит или вообще не в силах говорить. Помогают растерянному взгляду сфокусироваться и разглядеть то, что буквально лежит под ногами. Мелочи мира, печальный сор, таинственный мусор. Это взгляд лирический. Он принадлежит искателю поэтической речи. И чаще всего поиск сам по себе становится речью. Эта речь, склонная к широте и то и дело захватывающая в себя большие пространства, городские или пригородные, но по сути всегда маргинальные, тем не менее обрывочна, коротка и кратка внутри себя. Она складывается из тех самых «малых островков», о которых в тексте, давшем название книге («Долго идти вдоль шоссе по жаре, ничего не найти…»), авторка узнает из чьего-то сна, – там, во сне, эта формулировка принадлежит ей. В этом тексте-прогулке риторический поиск утешения в подножном соре начинается с безымянного желтого цветка на обочине. И ни к чему не приводит. Утешение невозможно. Возможно/необходимо блуждание, возможно/необходимо заблуждение. Возможно/необходимо заблудиться, потеряться – и так, парадоксально, «выйти из состояния потерянности». Все равно что узнать малую истину от самой себя в чужом сне.
Но вернемся к цветам. Что они вообще здесь делают? Кажется, воплощают нечто избитое – образ, сравнение, поэтизм. Только избитое буквально, физически, за неимением «за/ щитной кобуры метафоры». Они претерпевают: пробиваются, сохнут, мерзнут, подвергаются прополке, корчеванию, вытаптыванию. Описания их недолгой яркой жизни, смерти и посмертного существования пристально-сострадательны, уважительно-суховаты, бережно-психологичны. Это ботаника сопротивления. Так же хрупки и отчаянно непобедимы здесь молодые тела возлюбленных, их почти растительные локти, ключицы, пальцы и плечи, созерцаемые с нежностью, то есть одновременно чувственно и прощально. Нежность – главный аффект этой речи как открытой системы, способной включить в себя буквально всё в своей страстной беспристрастности. И она же, нежность, выталкивает лирический взгляд в область политики, придает ему силы смотреть в лицо госнасилию: «тюрьма на колесиках <…> забирает друзей, даже самых красивых / одногруппниц и одногруппников с нежными / лицами». Да, цветы (декоративные растения), безусловно, «поэтика», но они же, разумеется, и «политика»: война роз, черный тюльпан, белая роза, токийская роза, слезоточивая «черемуха», дети цветов, революции цветов, guns n’ roses, «цветы лучше пуль»… Они стоят на границе «природы» и «культуры», личности и государства, украшают социальный быт, участвуют в обрядах и праздниках, сопутствуют «официозу», маскируют выгребные ямы власти. Их можно вставить в дуло автомата, а можно цинично посадить над расстрельным рвом. «Ветер колбасит нарциссы и срывает / декорации к Дню победы». «Цветы: всё еще оживляют <…> / пробивают упругими бутонами норки- / тоннели в киферовской листве».
«За/ щитная кобура метафоры» отсутствует. Но перенос «психического» на «природное» и вообще обращение, прикасание, почти руссоистское припадание к «природе» в поисках утешительного (даже если оно безнадежно) сравнения, сопоставления, решения – главный механизм этой речи, ее защитный механизм. Но утешения ведь нет, есть только «ласковые эманации мира», его равнодушное блаженствование и такое же отрешенное страдание. Есть только внутреннее единение и как бы смиренное согласие жителей «природы» в том, чтобы не участвовать в «психическом», а следовательно, и в «политическом», – разве что давать зрителю возможность иногда убедиться: мир по-прежнему существует. Значит, существует и он, зритель: «пока вызревают бутоны пионов <…>, / роскошествуют шмели <…>, началось / второе лето войны»; «прошмыгнула парковая мышь / <…> смотрит прямо на меня / значит я существую».
«Началось второе лето войны» – «значит я существую». Потому что война смотрит прямо на меня, смотрит отовсюду, мелкими нелепыми приметами – белкой, которая грызет георгиевскую ленту, повязанную на ветку; мальчиком в шапке с российским флагом; словом «Zалупа», дописанным на пыльном стекле машины; школьником с маленькой буквой z на рюкзаке; хагги-вагги и бюстиком Сталина в сувенирном ларьке… Она смотрит на меня, а я смотрю на нее. Это смотрение, бесстрашное, потому что оно становится опасными словами, и одновременно приучающее себя к долгому страху, уже впитавшемуся в каждое казалось бы нейтральное слово («Тени достаточно для всех»; «девушка / в зеленом пальто, бегущая мимо психонев / рологического диспансера»; «Красная капля падает с клюва»), – это смотрение выходит к мощным описаниям, картинам, в которых действительно есть что-то от Кифера: наслоение пейзажных планов, большие форматы объективаций, «природные» материалы («Кивают сушеные головы гортензий, / колышется застрявшая в снежнице собачья / шерсть»; «перья / разодранной птицы и пробивающиеся сквозь них / бутоны»), одновременные, почти соприродные тяжесть и нежность.
Это выстраданная, взыскуемая «природа», с ее иллюзией целостности и полноты («целокупность садика»), с ее эскапистской радостью братства, с ее интеллектуальным гедонизмом, с ее «кипящим светом в мозгу» и срывающимся почти псалмодически голосом, который поет «Цветы» Малларме. Это уже не Кифер, это Кифе́ра, это паломничество на вагиновские «острова Вырождений», в переделкинский ретрит, в Мещерский парк, на залив, под «купол эроса», «anywhere out of the world». Туда, где – не «С нами Бог», а «бог – / это доверчивое животное с легкой лапкой, сделанное / из вещества блаженства», Некто, придающий «запах и скорость вещам»; где – не смертельное всенародное единство, а «мы», облокотившиеся друг на друга, «чтобы укрыться / от ветра». Туда, где «Простые вещи / еще вибрируют, „мир / мерцает“» (как мышь, разумеется, та самая, что смотрит прямо на тебя).
Передать эту вибрацию, это ничему уже не подвластное мерцание мира, биение «лапки» бога, передать этот вайб может только свидетельство, ничем не защищенное, формально голое, в своем долженствовании совпадающее с моральным императивом пишущего: «Il faut que je réagisse, il faut que je parle». Свидетельство, смиренно следующее всем изгибам мира, почти безыскусное, вернее, настолько искусное, что может показаться чем-то другим: голуби
<…> догадались, что язанимаюсь чем-то вроде поэзии, сличая подснежникс маленькими бутонами-каплями и белоцветниквесенний, покрупнее, со склонившимися к землеколокольчиками.Если поэзия и способна что-то изменить, то это порядок вещей, потому что, да, «В вещах есть поэзия», какими бы страшными ни были вещи, какой бы прямоты они ни требовали от слова. «Выкорчеванный светофор свален / на перекрёстке горой черепов». «Манекены-торсы / из пластика навалены верещагинской грудой». Возможно, с этой (осознанной?) способностью связана здесь фиксация дат, с которых начинаются некоторые тексты: «восьмого ноября…», «Седьмого марта…», «Десятого или одиннадцатого февраля…», «Восемнадцатого января…», «Двадцатого октября…», «Двадцать девятое августа…», «первое сентября двадцать второго…». Магическая фиксация. В ней нет пассивной дневниковости. Но целановское «у каждого стихотворения есть свое 20 января [или 24 февраля], вписанное в него и длящееся в нем», – возможно. И дерридианский активный «опыт даты», присущий современному стихотворению, кажется, тоже есть. «Дата», скрытая «дата», – момент сопротивления стихотворения, из которого парадоксально растет его необходимость говорить в своем движении к Другому. Это сопротивление и меняет порядок вещей, меняет знак нормальности. Здесь даты-шифры во многих случаях открыты, и мы знаем, что́ дешифруется. Это моменты предельной открытости, последней прямоты, голости голоса. Открытые даты сопровождаются точечными световыми эффектами: луч солнца, блестки, электрическая звезда, мигание первого снега, зеленая точка на бегущей строке, белеющий обломок кости в траве… Это знамения.
В одном таком тексте вскрывается следующий потайной ларчик, внутри внутреннего, внутри «даты»:
возникновение и исчезновение радугиее обесцвечивание, истаивание и бесследностьведь мир после чуда таковкак будто чуда никогда не былоЧудо останавливает естественный ход вещей, меняет их порядок, их знак. Однако смысл чуда не в нем самом, но в том, что происходит после него. А после него ничего не происходит. Как будто чуда и не было. А его, разумеется, и не было. Просто мы теперь знаем, что
восьмого ноябрябелые цветки крапивыпримятые дождемвсе еще светятсясреди одинаковых днейИгорь Булатовский«тебя нет в баре „хроники“…»
тебя нет в баре «хроники»тебя нет в баре «залив»тебя нет на катке в парке культуры и отдыхатебя нет в цветочном горшке: там только еловые иголкитебя нет в графине с кипячёной водойтебя нет в чайной кружкетебя нет в переулке ульяны громовойда и склада «нло» там тоже давно нетнет «пирогов на фонтанке», нет «мишки», нет «тихого хода»нет «холи вотера» на некрасова 36, укромность которогопозволяла «склеить собеседника», исчезая из «хроник»нет нас прежних, нас нет в парке сосновка у деревана самом соблазнительном свиданье моей жизнии если ты сейчас пройдешь мимоты шарахнешься от меня, как от привиденияиз две тысячи четырнадцатогоиз две тысячи семнадцатогоиз две тысячи девятнадцатогоиз две тысячи двадцатого«Отцвели подснежники, и первые…»
Отцвели подснежники, и первыекрокусы отошли, их сменяютуже другие цветы. Девушка с весломпокинула остров. Наверное, отправиласьмстить обидчику, как Каменный гость.Прошлым летом на её лобкеможно было заметить эмблемутелекомпании «Вид» – знак зарожденияжуткой жизни. Призракизапускают водовороты, и сухие листьяподнимаются вверх. Белая ватаразлетелась у продавца сладостей, и комочкиподдельного тополиного пухакатаются по голой земле. Прийти туда,где было что-то важное, но ведь мы знаем,что дело даже не в Девушке с веслом,хоть её и бесконечно жаль,прийти к этому отсутствию, чтобы найтипарящие над водой воротца,эолову арфу, пустой постамент.«Картина чудовищного разгрома…»
Картина чудовищного разгромана месте благоустроенного участка:выдранный куст гортензий и стеблитигровых лилий. Пионы и розывысохли от жары, и теперь,когда стало так холодно и безлюдно,они не оживут снова. Останки чёрной птицыи девочка с гладкими локонами, падающимина попу, на велосипеде, как символ взросления.Ты приехал утренним поездом в разгарчумного мора, в сандалияхи без вещей. Можно вымыть лицо в кафе.Можно побриться под машинку в дешманскойпарикмахерской. Можно купить новую футбу,если эта рубашка будет настойчивозаявлять о себе спустя пару дней.Наконец ты свободен, как разъятыевянущие растения, за которыми много летникто не ухаживал. Они растут сами по себе,очень отважные, вытаращив цветыв одинокий вечерний холод,сковывающий мозг.«быть лучшей версией себя…»
быть лучшей версией себявсё ещё учиться хрупкостине настаиватьконечно, никогда не обладатьабонементом на эти нежные практики«Спят серебристые и плакучие ивы, спит неоновый…»
Спят серебристые и плакучие ивы, спит неоновый ресторан и покачивается на воде. Влюблённые рыбы выпрыгивают из пруда, чтобы поймать роящуюся у поверхности мошкару. Тут и там появляются расходящиеся круги, отчего кажется, что начинается нешуточный дождь. Вещи происходят впервые, если разрешить им случаться. В первый раз моего лица с нежностью касаются ступни и пальцы ног, я не испытываю брезгливости, несмотря на свойственную мне ипохондрию. Я замечаю, что желание действительно способно создавать эффект «влажного взора», и твои глаза в темноте напоминают две светящиеся капли (рот тоже лукавый и каплеобразный). На протяжении всего ночного свиданья в моей голове играет песня Меладзе «Салют, Вера», но это не снижает величия происходящего: «и воздух вкруг тебя вращается, влюблённый» (для носителя эйфорического зрения это вещи одного порядка). Теперь я могу говорить открыто. Меня подводит лишь факт того, что честность едва ли совместима с соблазном.
Переделкино
Мат, грохот стройки и пение птиц.Первый пион, влажный. Улитки и черемша,пахнущая чесноком: «зелёное золото Переделкина».Хочется спасти жирного слизня и посадить его на траву,но его непросто взять в руки, он выскальзывает,и потом минут 30 нужно смывать с пальцев слизь.Возможно, было бы приятно посадить слизня на сосок.Лунник возле посмертной маски Пастернака.Поникший, со сжатыми губами, и это перламутровоесвечение возле лица. Я нахожу у себя похожую рубашку,чтобы излучать за ужином бледный свет.«Чудо-дерево» возле дачи Чуковского.На самом деле что-то мемориальное, детские сандалиии тапки, висящие на ветвях: покинутая одежда – это всегдапро одежды мёртвых, будь то Болтански или Аристакисян.Получается какая-то могила советского детства«в воздушном пространстве», на сказочном дубе.Вечер, когда мы ищем дом Юрия Мамлеева, но утыкаемсяв заросли, где кончается парк. Комки тополиногопуха на кладбищенской паутине, рассыпанныеконфеты и печенье в виде рыбок, даже искусственныецветы и елочные украшения, яичная скорлупа – это роднежности, ведь разве мы можем упрекнутьэтих любящих в отсутствии вкуса.Коровы возле ограды, их ловкие хвосты и невинные шлепки.Момент ослепления после долгого жара,когда господь на радуге является нам, и озарённыеэтим видением мы подставляем лицаутешающим струямполивальной машины.«Мой голос запаздывает на 10 секунд…»
Мой голос запаздывает на 10 секунд,ты иногда пропадаешь, слышится звуковой сигнал,потом ты говоришь со скоростью х 2.Всё это не приближает тебя ко мне,даже если я включу светофильтры,и мой дисплей станет чёрно-белым,как твой.Иногда мне кажется, что ты живёшь внутри этого устройства, словнов переделкинском гостиничном номере,с новым круглым креслом на балконе,и знакомый метрдотель, как голосовойпомощник, желает тебедоброго дня.«Смотрю в экран телефона с нежностью, что…»
Смотрю в экран телефона с нежностью, чтото пульсирует в такт интонациям в полезвонка, вроде голубого свечения. Забыларассказать смешное: видела, как перегородки в метро скрепляют с помощью наручников. С другой стороны, эта информацияимеет уже неуместные эротические коннотации. Неизбежность чувствовать чувства, благо боли – болеть. Сегодня не быложивых людей вокруг, и вряд лиудастся выйти в магазин за продуктамиили подать документы, дорогойдневник.«после любви…»
после любвипросьба о загробной услугеи дальше тоже всё по Проппу:отлучкакличнедостачажалобная песньвыведываниев поисках волшебного яйца с любовью царевныприветливый ответ – это пощада просящегокто вынет мёртвый зуб из моего сердцакто вернёт глаза в обмен на вышитую корону«Дети играют со спиленным деревом. На воде…»
Дети играют со спиленным деревом. На водехохлатая чернеть с утятами, они синхронноныряют и ловят маленьких рыб, после с трудомих заглатывая. На волнах качается слёток чайки,но больше не прикладывает усилий, сбитый, по всейвидимости, праздным катером: головы нет.В вещах есть поэзия. Жёлтые кубышки у берега. Иван-чай отцветает, продолговатые стручки-спиральки покрыты пухом и паутиной. Репейник превратился в заячьихвостики и распался. Лето кончается.Кожа пахнет солнцем и пылью. Ветерподнимает волны и уносит тепло августа.
«Уже можно лопать ягоды снежника, правда, они…»
Уже можно лопать ягоды снежника, правда, онихрустят не так весело, как в сентябре-октябре.Последние розы, их сладкий тяжёлый парфюм, как бы для«взрослых женщин». На деревьях созрели вишни, которымилакомятся скворцы. Много рябины, значит, зимабудет морозной; возле богатых домов срастаютсякипарисы и виноград: плоды последнего, разумеется,останутся в зачаточном состоянии. Надписьна балконе соседей не исчезает, и красные буквыгорят среди хлама, как на партийном плакате, значит,он все ещё любит её, или он оставил их там по забывчивости?Горчичный бадлон и щетина теперь уже музейногосотрудника, который является во сне в виде жёлтого свечения.Я попробую сохранить это чувство в себе, без обвиненийи жалоб.«Долго идти вдоль шоссе по жаре, ничего не найти…»
Долго идти вдоль шоссе по жаре, ничего не найтии ни с чем вернуться назад, потому что заблудиться —это тоже возможное решение, и оно помогает выйтииз состояния потерянности. Жёлтый цветок у дороги,жестяные банки, бычки, пластиковоеяйцо от киндер-сюрприза. Нашёл ли ты то,что успокоит твои мысли, утешит твое сердце, развееттвою печаль? Обгрызенная половинка мыши, засиженная зелёными мухами, мумия или скелетик лягушки. Пластиковыеаисты и фламинго, нарастающий стрёкот, кафе «Три льва».Но есть и другая прогулка, которую мне хотелось бы отметитьтатуировкой на предплечье в виде косули, являющейсямежду деревьев, когда ты рассказываешь сон про «малыеостровки речи», и в нём эта репликапринадлежит мне.
«Одинокое селфи на фоне подсвеченных потоков воды…»
Одинокое селфи на фоне подсвеченных потоков воды.Плюшевые роботы, некоторые из которыхутратили уши, двигаются среди пластиковых растений,стоически переносят свою никчемность и неприглядныйвид. Олени, зайцы, белый тигр, дым, сделанный из серойстроительной ваты, вращается над трубой, закреплённый на проволоке.В кафе «Пионер» колонна – это факел, и потолок горит (росписьимитирует языки пламени). Колонна окрашена красным и немногорасширяется кверху, как в Кносском дворце. Наверное, пионерыпринимали её за скрепляющий дружбу и поднимающий силудуха костёр. Золотые рыбки в пруду как проблески счастья, водомеркибегают на коньках и складывают созвездия. Ведь и здеськто-то был на свиданье, держался за руки. А здесь рыбкипопадают в стеклянный аквариум без дна, стоящий прямо на поверхностиводы, непонятно, как их заманивают туда, вероятно, с помощью корма,и водяной куб уже парит в воздухе, как офисное здание, рыбки в нёммалоподвижны, произошло их концептуалистское влипание в студень.Тем не менее, у них есть ещё шанс вернуться обратно, уйти на свою глубину.Или вспучивается могила Толстого, похожая на высокую клумбу или художественный объект, загадочный, без надписей и примет, сравнимый,пожалуй, по степени потусторонней нездешности с могилой Малевича.На подступах к могиле Толстого – табличка «Зона тишины», как будто речьо лаунж-пространстве, месте для медитации и йогических практик.Сладкий запах в яблоневом саду с эффектом 5D, обломки купальни,мальчик в футболке «Богема» на берёзовом мостике, «какие-точувства есть, но не такие, как прежде», постепенноКонец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.





