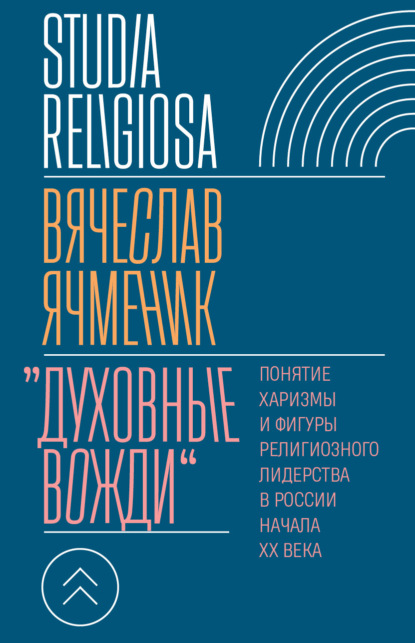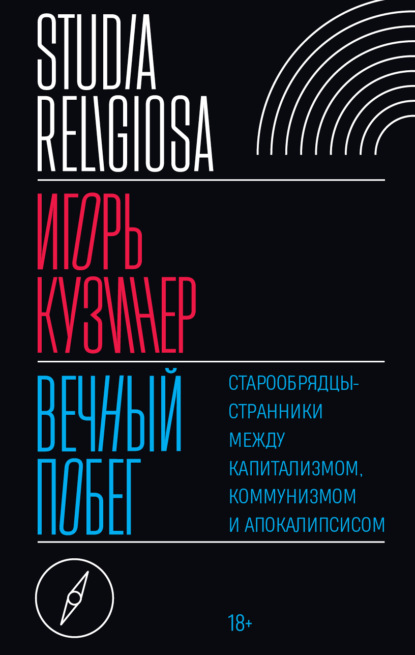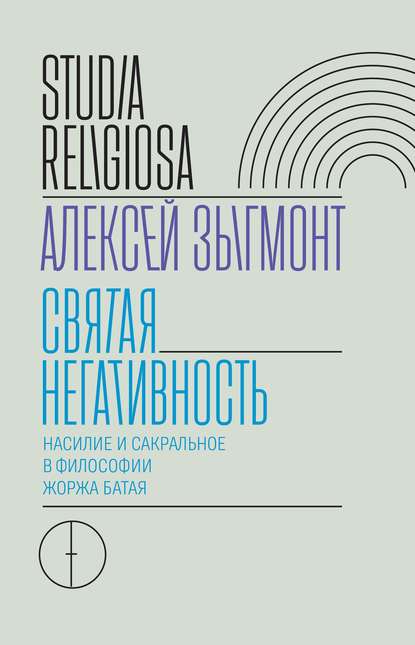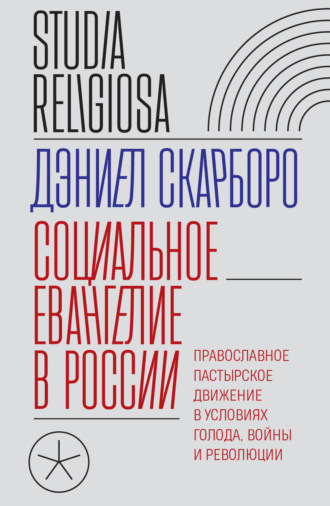
Полная версия
Социальное евангелие в России. Православное пастырское движение в условиях голода, войны и революции
Участие московских пастырей в деле заботы о раненых солдатах продемонстрировало растущее различие между их обязанностями в качестве вспомогательных государственных служащих и их пастырской миссией. Приходское духовенство будет продолжать выполнять возложенные на него государством обязанности на регулярной основе, такие как сбор информации, и другие основные социальные услуги, такие как обучение прихожан надлежащим санитарным мерам для предотвращения распространения холеры279. В то же время приходские священники теперь сами контролировали свою пастырскую миссию в обществе. Они сами определяли границы этой миссии в диалоге с мирянскими сообществами, на поддержку которых и сотрудничество с которыми эта миссия опиралась. Типичный пример такого рода применительно к помощи военным – священник Лебедев из прихода в городке Бронницкого уезда. В своем отчете он утверждал, что инициировал проект помощи солдатам еще до получения обращения со стороны Военного министерства. Он собрал группу «добрых людей», которые согласились финансировать и поддерживать полевой госпиталь для шести солдат. В эту группу входили московский купец, представитель земства, начальник железнодорожной станции, четыре местных лавочника, крестьяне из трех деревень и директор местной фабрики. Кроме того, жена механика пожертвовала белье, а две школьные учительницы согласились быть сиделками280. Деятельность Лебедева олицетворяла добровольное проявление духовенством той социальной активности, которую поощрял Победоносцев, и потенциал сотрудничества, который давали такие автономные инициативы для представителей всех сословий. Однако в контексте войны это было исключением. Большинство московских пастырей восприняли обращение Военного министерства как служебную задачу. Их отказ выделить ресурсы на заботу о солдатах продемонстрировал освобождение пастырской миссии от государственного контроля.
Революция
Реакция духовенства на другой кризис 1905 года – на революционное насилие – продемонстрировала стирание различий между такими функциями священнических сетей, как взаимопомощь духовенства и пастырская миссия в отношении населения. В 1905 году антирелигиозная идеология революционных активистов порождала насилие против церкви. В разгар революционного безумия духовенство и церковное имущество по всей империи стали объектами вандалов и террористов281. Политические агитаторы настраивали православное население против духовенства, называя священников жандармами, агентами режима и врагами народа, и призывали прихожан прекратить всякую поддержку церкви282. Тверской священник сообщил о покушении на его жизнь в октябре 1905 года, во время которого «пуля на аршин пролетела мимо»283. Тяготы, которые это насилие причинило духовенству, по большей части были смягчены священническими сетями. Утрата собственности духовенства всегда была возможной, и епархиальное попечительство существовало для защиты священнослужителей от нищеты в подобных обстоятельствах или для помощи их вдовам и сиротам284. Однако в Синоде была высказана обеспокоенность тем, что жертвы антирелигиозного насилия, оказавшиеся за пределами священнических сетей, не получили необходимой поддержки, особенно церковные сторожа и их семьи. Эту должность часто предоставляли бедным представителям духовного или крестьянского сословия как средство прокормить себя. В 1908 году была образована комиссия для поиска мест в приютах для всех детей церковных сторожей и «других низших служащих Ведомства Православного Исповедания, погибших от рук анархистов-грабителей при исполнении служебных обязанностей»285. Приходскому духовенству Московской епархии 13 июня 1908 года было приказано собирать информацию о любых случаях, подходящих под это описание. Однако эта инициатива оказалась безрезультатной. Критерии Синода были слишком узкими и основывались на неправильном понимании последствий антирелигиозного насилия для православного сообщества.
Доклады, представленные в Московскую консисторию в ответ на указание Синода, не подтвердили тот сценарий, который предполагали его авторы. Священники сообщили о небольшом количестве случаев убийства сторожей, оставивших после себя взрослых и пожилых членов семьи, и предложили выделить средства на их поддержку. Один священник сообщил, что у крестьянина, погибшего при защите церкви от грабителей, осталась незамужняя 36-летняя дочь, которая «поддерживает свое существование в настоящее время поденным трудом. На помещение в какой-либо приют сирота Галкина не имеет склонности, но желала бы для облегчения своего материального положения получать какое-либо пособие»286. Другой священник сообщил о смерти крестьянина, служившего смотрителем монастырского имущества, который был убит во время беспорядков, оставив после себя вдову и двоих маленьких детей287. Этот случай не подходит ни под условие о смерти «при исполнении служебных обязанностей», ни под условие о детях, нуждающихся в приюте. Два других священника сообщили об аналогичных убийствах и об оставшихся членах семьи, которые нуждались в помощи, но не хотели отдавать своих детей в приют. Всю эту информацию Московская консистория передала обер-прокурору 4 сентября288. Никаких сведений об ответе со стороны Синода на эти просьбы о помощи не сохранилось.
Усилия по оказанию помощи, инициированные самим московским приходским духовенством, представляли собой разительный контраст с безрезультатной реакцией Синода на антирелигиозное насилие. В январе 1906 года четыре протоиерея и один мирянин образовали Московский епархиальный комитет помощи жертвам широко определяемых «беспорядков». Этот комитет собирал пожертвования со всех приходов и монастырей епархий, которые консолидировались по благочиниям перед отправкой в комитет и к октябрю 1908 года составили 142 839,16 рубля. Тем временем приходские священники беседовали с просителями и фиксировали обстоятельства, при которых они стали неработоспособными или потеряли главу семьи в результате революционного насилия. К концу кампании средства комитета были розданы 195 семьям, большинство из которых были идентифицированы как крестьяне или мещане289.
Этой кампанией московское духовенство продемонстрировало эффективность своих сетей в предоставлении гуманитарной помощи на основе местных данных. Кампания также показала, что значительная сумма денег может быть использована для оказания помощи за пределами духовного сословия и по инициативе самого духовенства. Отказ от взаимопомощи исключительно в среде духовенства, возможно, породил бо́льшую поддержку этой инициативы среди мирян, представив антирелигиозное насилие как общую проблему как для духовенства, так и для верующих. Переход священнических сетей от взаимопомощи служителей церкви к помощи людям в целом стал особенно заметен во время крупнейшей гуманитарной катастрофы 1905 года.
Голод
Повсеместный неурожай и голод непосредственно затронули гораздо большую часть населения империи, включая духовное сословие, чем любой другой кризис революционных лет. Приходское духовенство отреагировало на неурожай с той же самостоятельностью, что и во время вышеупомянутых кампаний помощи. 7 октября 1905 года Синод издал директиву всем приходским священникам начать проводить еженедельные сборы пожертвований для семей раненых солдат и предоставить Красному Кресту доступ в свои церкви для проведения параллельных сборов в помощь пострадавшим от неурожая в течение года290. Приходское духовенство по большей части проигнорировало эти инструкции и инициировало независимые кампании по оказанию помощи жертвам голода во многих епархиях. Сразу после того, как Синод издал это указание, митрополит Владимир выступил с собственным указом о создании в Москве епархиального комитета помощи голодающим291. Тверское духовенство также начало кампанию по оказанию такой помощи. Ни Тверь, ни Москва серьезно не пострадали от неурожаев, однако пастыри обеих епархий организовали перевод значительных сумм денег из своих общин голодающим в других епархиях.
Сведения об оказании помощи голодающим со стороны Москвы и Твери свидетельствуют о децентрализованной гуманитарной помощи, организованной местными лидерами. В то время как приходское духовенство, участвовавшее в оказании помощи голодающим в 1891 году, было вынуждено передать контроль над распределением помощи правительственному комитету в ноябре того же года, священнические комитеты, которые начали работу по оказанию помощи в 1905 году, сохранили контроль над распределением своих средств и, следовательно, были свободны в выборе, кому помогать. Не было никаких ограничений на взаимообщение между комитетами разных епархий или между комитетами духовенства и мирян. Даже местные комитеты могли обходить свой собственный епархиальный комитет и отправлять свои пожертвования напрямую в другие провинции292. Священнослужители могли отправлять пожертвования своих прихожан своему благочинному, в местный комитет или непосредственно в епархиальный комитет. Местным комитетам никогда не приказывали распуститься, и они продолжали работать до 1909 года, когда перестали получать пожертвования.
Усилия по оказанию помощи в Москве и Твери были децентрализованы и с точки зрения инициативы, которая исходила в этот раз от самих священнических сетей. В отличие от кампании 1891–1892 годов епархиальное руководство не требовало отчетов и не оказывало давления на отдельные приходы с целью увеличения сбора пожертвований. Напротив, усилия по оказанию помощи, похоже, были вызваны общественным давлением. Например, регулярные сообщения о пожертвованиях в епархиальной прессе давали возможность увидеть степень участия каждого прихода епархии293. Отдельные священнослужители также прилагали усилия на местном, приходском уровне, собирая пожертвования от прихожан и подавая личный пример. Отчеты показывают, что священники часто вносили самое крупное пожертвование в общую сумму от своего прихода. Более бедные члены причта, такие как дьяконы, пономари и просвирни, также делали свои пожертвования294. Приняв на себя коллективное руководство этой масштабной программой по оказанию помощи, приходское духовенство определило и ее приоритеты. Отчеты о сотрудничестве между пастырями Москвы и Твери с пастырями других епархий показывают, что эти приоритеты варьировались от фокуса на духовном сословии до более общей филантропической деятельности.
Духовенство некоторых пострадавших епархий использовало свои сети для направления внешней помощи тем, кто наиболее сильно пострадал от голода. Епископ Рязанский Аркадий (Карпинский), например, обратился с письмом к московскому викарию епископу Серафиму (Голубятникову), председателю московской комиссии по оказанию помощи, пояснив, что запрошенная сумма в 1500 рублей будет роздана людям «наиболее нуждающимися, по своей бедности и многосемейности, в материальной помощи, по случаю неурожая хлеба в минувшем 1905 году, и до сего времени не пользующихся никакими пособиями ни от правительства, ни от земских учреждений». Далее следовал список имен, должностей и приходов – 172 священнослужителей, сирот и вдов священнослужителей, сгруппированных по благочиниям для сбора и распределения помощи295. Представляя аналогичный список нуждающегося духовенства, епископ Тульский неожиданно и, возможно, лукаво заявил, что «в Епархиальном Управлении не имеется сведений о нуждающихся в пособии лицах, не состоящих в духовном ведомстве»296. Орловский епископ просто попросил пожертвовать 1500 рублей в попечительство о бедном духовенстве его епархии297. Неудивительно, что архиереев и других членов духовных консисторий беспокоило прежде всего тяжелое положение приходского духовенства, а также сирот и вдов из духовного сословия. Как объяснял епископ Аркадий в другом письме два года спустя, крестьянству придется самому восстановиться после неурожая, прежде чем оно сможет снова начать поддерживать своих пастырей. А тем временем этим пастырям и их семьям придется как-то выживать298. Однако то, что епископ Тульский Лаврентий (Некрасов) был вынужден объяснять исключение мирян из списка жертв голода недостатком информации, предполагает, что от церкви ожидали помощи, не ограниченной сословными рамками.
Духовенство некоторых епархий использовало свои сети для выявления нуждающихся и доставки помощи отдаленным или маргинализированным жертвам голода среди мирян. Епископ Тамбовский Иннокентий (Беляев), например, представил список 20 крестьянских сельских обществ в двух округах, которые «из пострадавших от неурожая наиболее нуждаются в скорейшей помощи». Он указал имена и адреса восьми различных благочинных, которые могли бы получать и распределять помощь этим общинам299. Таким образом, духовенство, решившее помочь мирянам, демонстрировало такую же точность при распределении небольших, но эффективных пожертвований, как и при распределении помощи внутри своего сословия. По крайней мере в одном случае священники оказывали помощь безродной городской бедноте, изгнанной из сельской местности голодом и лишенной даже той поддержки, которую могла оказать крестьянская община. Один священник из Саратова, о. Четверников, в благодарственном письме, адресованном Московскому комитету, рассказал об использовании его комитетом пожертвования в размере 500 рублей, полученного из столицы.
Деньги были получены на Страстной неделе, в самую трудную минуту. Как раз на этой неделе были закончены городские дренажные работы, дававшие в течение зимы заработок нескольким сотням рабочих из неурожайных местностей, вместе со своими семействами, работавшим в Саратове, и все они остались без работы и без всяких средств к существованию, лишившись последнего ничтожного заработка за 25 коп. в день, который доставлял им город… Для более правильного распределения пособий, Комитет непосредственно ознакомился с положением безработных чрез своих членов, которым поручал посещать их квартиры, а также через приходских священников. Помимо собирались сведения и о других крайне бедствующих в пределах того или другого прихода, причем оказалось, что в Саратове существует целое море крайней нищеты, ютящейся преимущественно по оврагам Глебучева и Белоглинского. Яркая картина этой нищеты живо изображается в следующих, например, заметках, сделанных одним из членов комитета: 1. Потап Мещеряков. Чернорабочий. Семья его состоит из шести малолетних детей, которые в оврагах выбирают щепу для топки и тряпки для продажи, а иногда ходят по сбору подаяний, и больной жены, не могущей каким-либо заработком, за малютками детьми, и болеющей, хоть сколько-нибудь поддержать семью; квартира-лачуга, наемная; в ней нет ни скамьи, ни кровати; за квартиру должны 16 рублей. Дано 10 рублей пособия. 2. Кирилл Кузнецов. Жена помешанная, четверо детей, живет во времянке, положение ужасное и подавляющее. 3. Евгения Романова. 40-летняя девица, с одной рукой, при ней девочка 9 лет и малютка, бедность невообразимая; нет белья, одно только платье, смены никакой, во квартире пусто и холодно, за квартиру не платили 2 месяца. Дано 3 рубля… Всем безработным комитет выдавал пособия в размере от 1 до 5 рублей, а в исключительных случаях, и более, смотря по размеру нужды, количеству семьи и проч. Всего комитет оказал пособие 192‑м семействам на сумму 673 р. 6 коп. и кроме этого отослал 50 рублей в одно из сел Саратовской епархии на устройство столовой – яслей для детей… Кроме пособий деньгами, комитет оказывал помощь натурой (бельем, обувью, одеждой), уплачивая за квартиру и т. п.300
Саратовский случай, в частности, продемонстрировал превосходство функции взаимной помощи в рамках священнических организаций. В отличие от крестьянства городская беднота не имела экономической связи с епархиальным духовенством, и ее восстановление или, по крайней мере, выживание не принесло никакой материальной выгоды приходским священникам. Именно епископ Саратовский Гермоген (Долганев) вновь обратил внимание на нужды своего духовенства. В апреле 1908 года он запросил из Москвы дополнительную помощь для семи священнослужителей, девяти вдов клириков, одного бывшего епархиального служащего и четырех мирян, которым «за отсутствием средств, комитет не имел возможности удовлетворить просьбу о пособии»301. Из этого можно сделать вывод, что инициатива по отводу епархиальных средств от духовенства, судя по всему, зародилась именно среди саратовского приходского духовенства.
Духовенство незатронутых епархий, таких как Московская и Тверская, стояло перед выбором: объединить свои усилия по оказанию помощи со священническими сетями других епархий или попытаться организовать более универсальную кампанию по оказанию помощи. Для московского духовенства, служащего в городских приходах и имевшего доступ к богатым донорам, оказание помощи своим собратьям-пастырям во внутренних районах епархии было привычной обязанностью. Об этом долге им часто напоминали через епархиальную прессу: «Мы можем только надеяться, что старшие и более зажиточные члены великой семьи московского духовенства проявят сочувствие к великим нуждам сельского духовенства, их братьям меньшим… учитывая огромную разницу между их материальными и жизненными условиями и их собственными»302
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
Shah T. S. Faith on Fire: The Global Explosion of Political Religion. Stanford, CA: Hoover Institution Press, 2011; Smith K. D. Breaking Faith: Religion, Americanism, and Civil Rights in Postwar Milwaukee // Religion and American Culture: A Journal of Interpretation. 2010. Vol. 20. № 1. P. 57–92; Green E. C. The Master-Word: Lily Hardy Hammond and the Social Gospel in the South // Journal of Southern Religion. 2013. Vol. 15.
2
Berger P. L. The Desecularization of the World: A Global Overview // The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics / Ed. P. L. Berger. Washington, DC: Eerdmans Publishing Company, 1999. P. 1–18.
3
О соборном принятии решений в христианском мире в целом см.: Valliere P. Conciliarism: A History of Decision-Making in the Church. New York: Cambridge University Press, 2012.
4
Hobsbawm E. The Age of Revolution, 1789–1848. New York: Vintage Books, 1962. [См. в русском переводе: Хобсбаум Э. Век революции. Европа 1789–1848 / Пер. с англ. Л. Д. Якуниной. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.]
5
Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso, 1983. [См. в русском переводе: Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / Пер. с англ. В. Николаева; вступ. ст. С. П. Баньковской. М.: Кучково поле, 2016.] О национализме в имперской России см.: Knight N. Ethnicity, Nationality and the Masses: Narodnost’ and Modernity in Imperial Russia // Russian Modernity: Politics, Knowledge, Practices / Ed. Y. Kotsonis, D. Hoffman. New York: St. Martin’s, 2000. P. 41–64.
6
Hobsbawm E. The Age of Revolution, 1789–1848. P. 220. [См. в русском переводе: Хобсбаум Э. Век революции. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.]
7
Casanova J. Public Religions in the Modern World. Chicago: University of Chicago Press, 1994; Philpott D. Has the Study of Global Politics Found Religion? // Annual Review of Political Science. 2009. Vol. 12. P. 183–202.
8
Anderson M. L. The Limits of Secularization: On the Problem of the Catholic Revival in Nineteenth-Century Germany // Historical Journal. 1995. Vol. 38. № 3. P. 648.
9
Manchester L. Holy Fathers, Secular Sons: Clergy, Intelligentsia, and the Emergence of Modern Selfhood in Revolutionary Russia. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2008. [См. в русском переводе: Манчестер Л. Поповичи в миру: духовенство, интеллигенция и становление современного самосознания в России / Пер. с англ.: А. Ю. Полунов. М.: Новое литературное обозрение, 2015.]
10
Michelson P. L. Beyond the Monastery Walls: The Ascetic Revolution in Russian Orthodox Thought, 1814–1914. Madison: University of Wisconsin Press, 2017.
11
Hölscher L. Secularization and Urbanization // European Religion in the Age of Great Cities, 1830–1930 / Ed. H. McLeod. New York: Routledge, 1995. P. 263–288.
12
van der Veer P. Imperial Encounters: Religion and Modernity in India and Britain. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001. P. 15; Strikwerda C. A Resurgent Religion: The Rise of Catholic Social Movements in Nineteenth-Century Belgian Cities // European Religion in the Age of Great Cities, 1830–1930 / Ed. H. McLeod. New York: Routledge, 1995. P. 59–87.
13
Ballor J. J. (ed.) Makers of Modern Christian Social Thought: Leo XIII and Abraham Kuyper on the Social Question. Grand Rapids, MI: Action Institute, 2016.
14
Liebersohn H. Religion and Industrial Society: The Protestant Social Congress in Wilhelmine Germany. Philadelphia: American Philosophical Society, 1986. P. 50.
15
См., например: Lilla M. The Stillborn God: Religion, Politics, and the Modern West. New York: Alfred Knopf, 2007. P. 261.
16
Bowman M. Sin, Spirituality, and Primitivism: The Theologies of the American Social Gospel, 1885–1917 // Religion and American Culture: A Journal of Interpretation. 2007. Vol. 17. № 1. P. 95–126.
17
Rauschenbusch W. A Theology for the Social Gospel. New York: Abingdon Press, 1960.
18
Asad T. Religion as an Anthropological Category // Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993. P. 27–54.
19
Asad T. Religion as an Anthropological Category. P. 38. Об использовании указанного концепта Фуко у Асада см.: Canton S. C. What Is an ‘Authorizing Discourse?’ // Powers of the Secular Modern: Talal Asad and His Interlocutors / Ed. D. Scott, C. Hirschkind. Stanford, CA: Stanford University Press, 2006. P. 31–56.
20
Asad T. Religion as an Anthropological Category. P. 35.
21
Asad T. The Idea of an Anthropology of Islam // Qui Parle. 2009. Vol. 17. № 2. P. 21. [См. в русском переводе: Асад Т. Идея антропологии ислама // Islamology. 2017. № 1. С. 41–60.]
22
Asad T. Religion as an Anthropological Category. P. 28.
23
Ibid. P. 29.
24
См.: например: Veer P. Imperial Encounters. P. 24.
25
См.: Громыко М. М., Буганов А. В. О воззрениях русского народа. М.: Паломник, 2000. С. 54–73. На основе обзоров и отчетов Императорских этнографического и географического обществ о религиозных обрядах в 1890‑е годы Громыко и Буганов приходят к выводу, что среди православного населения того времени преобладал высокий уровень благочестия и уважения к церкви. См. также: Миронов Б. Н. Народ-богоносец или народ-атеист? Как россияне верили в Бога накануне 1917 г. // Родина. 2001. № 3. С. 52–58.
26
Herlihy P. The Alcoholic Empire: Vodka and Politics in Late Imperial Russia. New York: Oxford University Press, 2002; Greene R. H. Bodies in Motion: Steam-Powered Pilgrimages in Late Imperial Russia // Russian History. 2012. Vol. 39. № 1–2. P. 247–268.
27
Strickland J. The Making of Holy Russia: The Orthodox Church and Russian Nationalism before the Revolution. Jordanville, NY: Holy Trinity Publications, 2013.
28
С 1825 по 1907 год число постриженных монахов в империи увеличилось с 5742 до 24 444 человек. См.: Kenworthy S. M. The Heart of Russia: Trinity-Sergius, Monasticism, and Society after 1825. New York: Oxford University Press, 2010. P. 3.