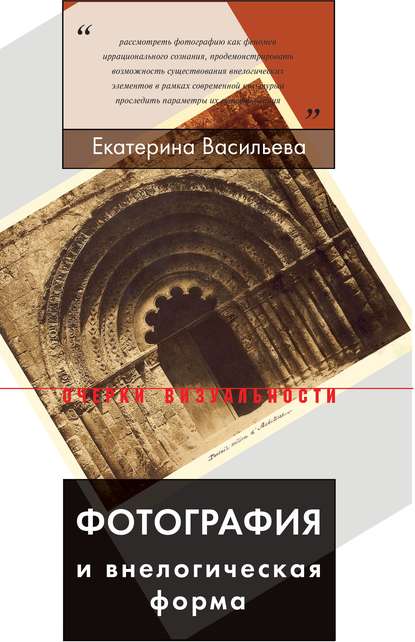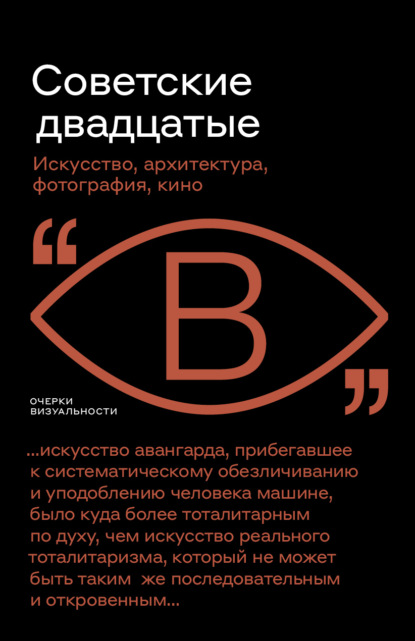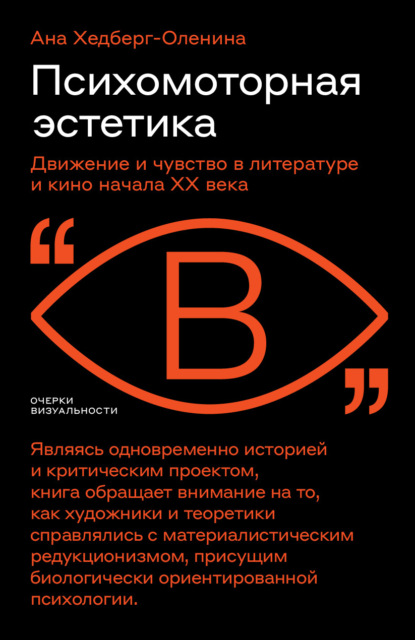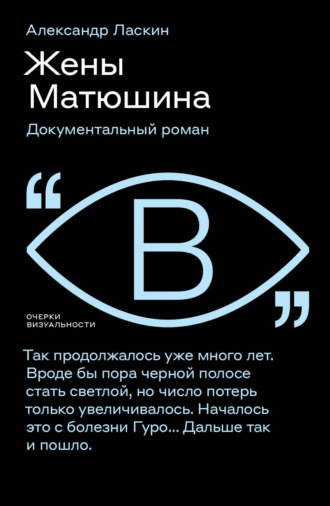
Полная версия
Жены Матюшина. Документальный роман
Теперь о многом ей приходилось догадываться. Не только о чистом воздухе, но о лесе рядом с их дачей.
Когда Елена бывала в лесу, ей вспоминался Рембрандт. На его картинах время вечно длящееся, а потому его можно уподобить пространству. Тут не дни и недели, а тьма и свет. Да и возраст деревьев примерно такой, как у рембрандтовских стариков. Он измеряется не годами, а веками.
В эти часы Гуро убеждалась, что в реальности больше искусства. Такое соотношение было и в ее жизни. Когда она поняла, что сына у нее не будет, ей ничего не оставалось, как его придумать.
В своих текстах она называет его по-разному. Словно у него, как у всего, что сочинено, есть черновики и варианты. В ее прозе и стихах юноша предстает как Вильгельм Нотенберг, барон фон Кранц, принц Гильом и Бедный рыцарь.
Так у Елены появилась еще одна биография. Сына не существовало, но его путь она прошла до конца. Когда сюжет был исчерпан, назначила ему последние сроки и проводила в двух стихотворениях.
Существуют такие литературоцентричные авторы. Они состоят из прочитанных или написанных ими книг. Вот что значит строчка: «…и не надо жалеть о нем». Это говорит не мать Вильгельма, а его автор. Приступая к новому замыслу, она прощается с прошлой работой.
За то время, что выпало Вильгельму-Гильому, он вытянулся, возмужал, стал похож, как говорила Гуро, на ученика Матюшина Бориса Эндера. Ничто не предвещало ухода. Что это было – болезнь, гибель в бою, упавший кирпич? Скорее всего, Елена понимала, что умирает, а без нее он точно не сможет жить.
Гуро болеет
У одного жизнь длинная, как роман, а у другого короткая, как рассказ. Страничка-другая – и все кончено. Можно только удивляться, что ее любимый жанр оказался судьбой.
Прежде она не разделяла себя и свои тексты. Все, что с ней происходило, отражалось в рисунках и записях. Сейчас ей хотелось многое скрыть. Уж больно все по-настоящему – и боли, и кошмары, и кровь на подушке.
Рядом с медицинскими склянками лежит тетрадка. Кажется, решается вопрос: чья возьмет? Уж как она сопротивляется, но страдания оказываются сильнее.
У Елены и прежде случались приступы, но сейчас все было иначе. Ведь приступ – это то, что проходит. Нынешняя боль могла быть глуше или острее, но никуда не уходила.
Не хотелось никого видеть. Особенно футуристов. Они ведут себя, как на сцене: громко читают стихи и о них говорят. Вряд ли ей по силам этот напор. Да и врача надо слушаться. Он прописал тишину и присутствие рядом самых близких людей.
Елена зовет мужа или сестру, и кто-то из них появляется. Так и помогают в четыре руки. Все это напоминает детство. Когда в три года она заболела, их квартира сосредоточилась на лекарствах, сползшем одеяле и сказке перед сном.
Это родственники, а что остальные? Их всех следовало заменить Громозовой. Все же, в отличие от друзей-поэтов, она имела отношение к жизни, а не только к литерам в наборной кассе.
Через что только не прошла ее подруга! Книжная лавка, подполье, работа машинисткой… Все это перемешалось, и на свет явился «пушковатый скромный луч мой – Олли».
Разберем эту фразу на слова. «Луч» говорит о ясности и прямизне, «пушковатый» – о тепле и мягкости. «Мой» подтверждает, что она воспринимала Ольгу как часть себя.
После первого письма Громозовой показалось, что замысел удался. Вместе с природой на помощь пришел деревянный дом. Поучаствовали не только стены, но даже половик.
Боже, как здесь хорошо! Как в сказке!.. Мне все понравилось: стены бревенчатые, а потолок – медовый. Я давно о таком мечтала. И узенькая полоска половика, и только что выкрашенный пол, и три большие светлые комнаты. Я выбрала угловую, с окнами на юг и на запад.
Я буду здесь здорова. Я должна быть здорова. Правда, Олли?
Вот такая эта барышня. Ее сверстницы заглядывались на серьги и кольца, а она – на потолок. Правда, потолок был вроде как медом намазан. Цвет и запах свежего дерева обещали спасение.
О болезни сказано в конце. Сперва Елена говорит, сколько у нее сторонников. Потолок, пол, половик. Это не считая мужа и сестры. Если все, что есть в доме, объединится, она должна поправиться.
Только Ольга порадовалась, что болезнь отступает, как пришла телеграмма.
Лене очень плохо, – писала Екатерина Гуро. – Хочет вас видеть. Приезжайте немедленно.
Не станем останавливаться на том, как Громозова добиралась. Она и сама этого не заметила. Если сказано «немедленно», думаешь только о том, чтобы успеть.
Наконец, Громозова в Уусиккирко. В доме темно и пахнет лекарствами. Михаил Васильевич и Катерина побледнели и исхудали, но делают вид, что надежда есть.
Глава четвертая
Придворный оркестр
В кино есть такой прием. Называется «А в это время…». Монтаж переносит нас в новое пространство, и мы видим ситуацию объемно – с одной и с другой стороны.
Хотя основные события происходили в Уусиккирко, но Петербург тоже поучаствовал. Хотя бы потому, что всякую отлучку Матюшин согласовывал с канцелярией.
Не зря оркестр прежде подчинялся военному ведомству. Скрипки и валторны не стреляли, но в строгости не уступали армейским. Отпуск запрещался, а работа на стороне приравнивалась к сдаче врагу.
Жили музыканты в казармах Конюшенного ведомства. Все подчинялось одному. В спальне стояли в ряд железные кровати, а прямо за стенкой располагался концертный зал.
На фото коронования императора Николая оркестранты в сборе. Мундиры делают их похожими друг на друга. Различаются они усами, бородами и количеством орденов. Одни получены за служение искусству, а другие – их больше! – за храбрость в боях.
В одном документе руководитель оркестра барон Штакельберг назван «начальником в строевом и хозяйственном отношении». Значит, оркестр – это не только хозяйство, но и строй. Действительно, музыканты на сцене выглядели красиво, как войска на построении.
К 1897 году оркестр переподчинили Министерству двора. Общее руководство связало его с Ботаническим садом, театрами и дворцовой полицией. Учреждения эти очень разные, но без каждого из них не представить географию жизни царской семьи.
Многое осталось, как прежде. Штакельберг не только назывался начальником, но продолжал расти в чинах. Вот он на фотографии – грозный, но справедливый – в форме генерал-лейтенанта. Ноты у него в руках подтверждают, что он всегда помнит о службе.
Со временем военного становилось меньше, а художественного больше. Впрочем, единообразие сохранялось. Правда, мундиры заменили костюмами егерей времен Елизаветы Петровны. Так что войско было скорее потешное.
Потешное – значит, предполагающее перевоплощение. Надел мундир – и принял условия игры. Снял – и опять сам по себе. Матюшина такие метаморфозы расстраивали. Почему другие могут быть собой всегда, а он – время от времени?
После того как Матюшин почувствовал себя художником, оркестр стал его тяготить. Впрочем, сразу уходить не хотелось. После двадцати пяти лет службы ему полагалась пенсия. Следовало немного потерпеть – и он больше не будет раздваиваться.
Все это подтверждала бумага. На языке, принятом во всех канцеляриях, в ней разъяснялось: «…в сентябре сего года вы окончите службу в Придворном оркестре».
Михаил Васильевич не только рассчитывал на освобождение, но к нему готовился. Издательство «Журавль» выпустило книги жены и друзей. Это были первые шаги в новую жизнь, которую он посвятит футуризму и футуристам.
Не пора ли вступить медным? – ими по праву гордился Придворный оркестр. Вот они заиграли туш в честь предстоящих перемен, но как-то враз замолчали.
Даже громкоголосые инструменты обладают тонкой организацией. Иногда они чувствительней скрипок. Впрочем, в сочувствии Матюшину объединились все. Когда кто-то хотел его о чем-то спросить, ему говорили: лучше не надо, Елена Генриховна тяжело больна.
Матюшин обращается в канцелярию
Сперва проситель получает разрешение. Причем не устное, а письменное. Затем набирается терпения. Наконец, в правом углу листа появляется закорючка. Значит, тебя заметили и удостоили резолюцией.
Матюшин никак не мог взять этого в толк. Почему его прошения движутся не экспрессом, а обычной скоростью? Называется это «бумагооборот».
Ситуацию осложнял его характер. Зачем обращаться в инстанцию, практически не имеющую лица, со своего рода письмом? Впрочем, по-другому он не умеет. Даже рисуя, обращается. В цветке или дереве угадывает нечто живое.
За годы, проведенные за мольбертом, ему стало ясно, что живопись дышит. Сочетания красок – все равно что вдох и выдох, понижение и повышение голоса. Может показаться, что картина сама себя спрашивает и себе отвечает.
Чтобы написать заявление, об этом надо забыть. На конкретный вопрос получаешь конкретный ответ. При этом обе стороны должны быть непроницаемы. Словно диалог ведут не люди, а шкафы или стулья.
Матюшин никак не мог отстраниться. Как он ни старался себя сдерживать, но за текстом слышалось: «После того как заболела моя Лена, я уже не живу».
Что будет дальше, он только догадывается, но «Дело артиста Михаила Матюшина» знает все. Оно ясно и недвусмысленно говорит о финале. Даже не об одном, а о нескольких.
Начинается папка с паспорта Марии, а заканчивается паспортом Елены. Это вроде как пролог и эпилог. Обе его жены скончались, и их документы разорваны надвое.
В промежутке – его нынешняя жизнь. Прямо-таки видишь, как он мечется между оркестром и женой. Это вам не то же, что выбирать между музыкой и живописью. Тут не две возможности, а необходимость и совершенная невозможность.
Матюшин просит у начальства отпуск на десять месяцев, а значит, все еще надеется. В то же время сомневается. Иначе он бы не писал о «крайне обострившейся болезни» и «настоятельности быстрого отъезда».
Его высокопревосходительству г-ну Старшему Капельмейстеру
Придвор. орк. Гуго Ивановичу Варлиху.
Ввиду крайне обострившейся болезни жены моей и настоятельности быстрого отъезда из С.Петерб., предписанного врачом г-ном Брунсом и г-ном Штернбергом и удостоверенном нашим врачом г-ном Булавинцевым; покорнейше прошу Вас, г-н Капельмейстер, исходатайствовать перед Его превосходительством Начальником оркестра необходимый мне, для сопровождения моей жены и пребывания с ней, десятимесячный отпуск от самого ближайшего срока.
5 апр. 1913
С истинным почтением
арт. Пр. орк. Мих. Вас. Матюшин
На другой стороне листа это комментирует доктор М. Булавинцев. Да, подтверждает он, все так. Может, даже хуже, чем думает муж.
Честь имею донести Вашему превосходительству, что жена артиста Матюшина больна злокачественной формой малокровия и быстро прогрессирующей ввиду тяжелого положения необходимо пребывание за городом на свежем воздухе и усиленное лечение и питание общее состояние настолько тяжелое что за ней требуется усиленный внимательный и постоянный уход.
Доктор пишет одно, а думает о другом. Уж очень ему хочется продлить жизнь пациентки. Поэтому, вопреки печальному итогу, фраза продолжается. Не считается с тем, сколько раз следовало поставить точку.
Одно дело надежды, а другое – обязанности. Доктор сделает все, что в его силах, а если не выйдет, подготовит родственников к ее уходу. Об этом говорит заключение. О «лечении» в нем написано раз, а «усиленный» повторено дважды. Это значит, что микстуры важны, но поможет только покой.
Гуго Варлих все так и понял. Все же у него музыкальный слух, а слух – это чутье. Прибавьте сердечность, без которой не сыграешь Рахманинова и Скрябина.
Концертмейстер не пропустил просьбы о девяти месяцах. Какие такие сроки при этом диагнозе! Посомневавшись, он опять доверился слуху. Подумал, что это не в его власти. У него нет возражений, а уж как оно будет, решать не ему.
Когда Гуро вскоре умерла, стало ясно, что еще хотел сказать доктор. Он понимал, что это не отъезд, а побег. Пациентка и ее муж хотели выйти из круга сочувствующих и остаться наедине с неизбежным.
Глава пятая
Гуро умирает
Для музыканта нет пространства, а есть только время. Зато живописцу небезразлично место действия. Даже если речь о портрете. Человека на первом плане он должен соотнести с фоном.
В данном случае музыканту помогал художник. Первый не думал об обстановке, а второй все замечал. Не пропустил закрытых штор и теней по стенам… В комнате Елены весь день сумрачно. Может показаться, что время остановилось.
Год назад Гуро тоже приезжала в Уусиккирко. В это время начались ее приступы, и она слегла. Матюшин раздвинул шторы на веранде, и из окон хлынул свет. Он был такой силы, что в нем растворились лицо и подушка.
Вспоминал ли Бенедикт Лившиц эту картину, когда описывал «излучавшуюся на все окружающее, умиротворенную прозрачность человека, уже сведшего счеты с жизнью»? Как бы то ни было, все это тут есть. Елена уходит туда, откуда идет свет. Не только она, но и комната им пронизаны – все темное рядом с ней так истончилось, что чуть ли не засияло.
После того как мы увидели ее на этом холсте, попробуем понять, что она чувствовала. Конечно, близкие о многом догадывались, но больше всего было известно дневнику.
Как мы знаем, проза Гуро говорит о мгновениях. Случится что-то ее задевающее, и она сразу достает тетрадь… Сейчас рассказывать было не о чем. Все повторялось, начиная приступами и заканчивая процедурами.
Когда в настоящем удивляться нечему, обращаешься к прошлому. Правда, болезнь и тут вмешивается. Пишешь про «рай любви и таланта», а буквы подпрыгивают на линии строки. Напоминают, что все хорошее было когда-то и уже не повторится.
Чтобы писать внятно, нужны силы, а у нее их все меньше. Прежде впечатлений было сколько угодно, а теперь остались только стены и потолок. Как на экране, на них возникают разные картины.
Все замечать – ее обязанность литератора. Так поневоле мы стали свидетелями. Вот Елена ощутила себя полой емкостью, заполненной ужасом до краев. Или червяком – скользким, корчащимся под ботинком. Представив это, она написала: «Раздавленная, я ползла».
Чем хуже она себя чувствует, тем больше тумана. «Мне хотелось кровопролития, чтобы под трупами спасти своих людей (своих единомышленников)». Неужто это об утраченных смыслах? Слова тут потеряли значение, а значит, пали в этой битве.
Тем удивительней появление света (уж не начал ли действовать морфий?) в соседней записи. Пространство расширилось, и она увидела не готовый опуститься ботинок, а огромное небо.
Я уходила все дальше в пустое поле под нависшими тюремными мыслями… – писала она. – Это абстрактная сторона одиночества, до чего я дойду… подумала я и отчаянно напрягла мысли… Звала людей, звала товарищей, чтобы не быть одной. «Я верю в вас», – кричала я мыслями, которые соединяют народы, чтобы не быть одной.
На последней фразе боль вернулась, и слова опять попадались не те. Добавляешь обезболивающего, и в воображении возникает пейзаж:
Кругом в голубоватом старом поле стоял дождь. Во всю сторону перевалом уклонами ширилось поле.
Так мы движемся от одной записи к другой, от острой боли к короткому просветлению. Откуда-то выплывают «чашки… китайской синьки, кофейник друзей и ананас радости». В эту триединую формулу счастья вписываются «состояние созерцания, белая дача, август». Завершают эту картину «золотистые белокурые волосики, по которым ласково проводит солнце».
Запись называется не «Диагноз», не «Близкий конец», а «Творчество». Ведь только работа может ее спасти. Кажется, сейчас их двое – первая очень больна, а вторая смотрит на себя со стороны и пытается описать.
Последней умирает не надежда, а способность к созиданию. Гуро видит, как опухоль переходит все границы и хозяйничает в доме. «Уже половинки со стульев, шкафа, стола съедены изжелта-мутным же. Уже половина головы отпадает…» В финале она не выдерживает и едва не кричит: «Сжалься, сжалься над жалким! Болит у меня мое – и не виновато оно в том, что было: если виновата, то я».
Словом, существуют «я» и «мое». Почему тело должно отвечать за сознание? Если наказывать, то не плоть, а дух. По крайней мере, не придется так мучиться.
В апреле плоть совсем сдалась, но дух еще держался. Елена опять попросила поднять шторы. Как год назад, когда муж нарисовал ее лежащей в постели, наступила весна, и из окон шел свет.
Елена умирала, но продолжала сочинять.
Ручеек прозрачный из-под ворот по красным и синим мостовинам бежал, – писала она, – и было видно сразу, что камни мостовой были невинны от городских грехов. А над воротами прозрачней юного ручейка чирикала птичка.
Вот что навсегда. Поле с дождем – и живой комочек, призывающий к чистоте и независимости. Ее не станет, но дождь будет идти, а птичка петь.
Когда Матюшин это читал, рядом с некоторыми записями он пометил: «Дневник из ран». Значит, раны – это не только кровь и боль, но это чириканье. Его можно расслышать в тех фразах, в которых перекликаются: «ейк» – «чир» – «птич».
Последняя запись помечена двенадцатым апреля. Только домашние знали, что происходило в оставшиеся ей полторы недели.
К домашним присоединим кота Бота. Как рассказала Громозова, он понял, что происходит что-то непоправимое, и почти не вылезал из-под шкафа.
Интересно, почему его так назвали? Бот – небольшое парусное судно, а botte по-французски – сапог. Возможно, тут оба значения. Передвигался кот быстро, как парусник, а, растянувшись на полу, длиной и чернотой не уступал голенищу.
Еще раз оценим способность Елены отражаться. Судя по фото, сделанные ею куклы в эти дни прятались в тени. С куклами были солидарны фарфоровые собачки на тумбочке. Они и прежде грустили, а сейчас на их мордочках прочитывался страх.
Это я отвлекал вас от главного. Не хочется говорить об этом, но придется. Обычно Матюшин старался в быт не погружаться, но тут ничего не пропустил. «Усиленный, внимательный и постоянный уход», прописанный доктором, не исключал и последней заботы. Елена умерла у него на руках.
Глава шестая
В опустевшей квартире
Больше всего Матюшина угнетали подробности. Как освободиться от взбиваемых подушек и дурнопахнущих лекарств? Еще его мучил ее дневник. Он открывался на тех страницах, которые пока лучше не перечитывать.
Трудно Михаилу Васильевичу. На этой кровати, почти не вставая, она провела последние месяцы… А эти фарфоровые собачки еще не сняли траура… Не правильней ли послушаться кота Бота и в ее комнату не заходить?
Следует вернуться в оркестр, но пока Матюшин не пришел в себя. Может, ему помогут новые виды и разговоры на непонятном языке? Если ты устал от слишком знакомого, надо лечиться чем-то совсем чужим.
Он снова пишет заявление, и опять выходит что-то вроде письма. Зачем жаловаться на усталость, если много месяцев ты не был на службе? По крайней мере, в канцелярии к этому относились именно так.
Ввиду постигшего меня большого горя, потери близкого друга и жены, я чувствую себя настолько физически и духовно разбитым и угнетенным, что покорнейшее прошу Вас, г-н Капельмейстер, исходатайствовать мне перед его Превосходительством начальником военного так как в настоящем моем состоянии я ни на что решительно активное не способен и чувствую страшную усталость. …1913. Мая 3-го.
Такую задачку задал Михаил Васильевич. Чтобы определиться с ответом, понадобилось четыре резолюции. Трое сомневались, а последний высказался уверенно.
В том, что четвертый писал карандашом, было что-то неформальное. Все равно, что стукнуть кулаком и сказать: «А кто не устал? Я бы тоже поехал в отпуск, но не могу бросить оркестр».
Оставался единственный вариант. Пойти в обход или, говоря иначе, к врачам. Если заручиться нужным диагнозом, этот вопрос будет решен.
Булавинцев писал на заявлении пациента, а у доктора Купчика был собственный бланк. В правом верхнем углу значилось: «Министерство двора» и «Врач придворной капеллы». Этот шрифт украшает бумаги начальника оркестра и даже самого императора.
Так доктор подчеркивал, что он – первое лицо. Как с упомянутыми высокими чинами, с ним лучше не спорить. Если он придет к какому-то выводу, это будет вердикт.
Ввиду крайне обострившегося общего болезненного моего состояния, – обращался Матюшин в канцелярию, – плохое сердце, болезнь почек, сильный катар желудка и общее тяжелое ухудшение душевного состояния вследствие недавней утраты, по заключению врачей, меня лечивших, а также и нашего придворного врача Николая Ивановича Купчика; требуется неотложная поездка за границу, так как промедление может серьезно ухудшить состояние моего здоровья. Я покорнейше прошу Вас, г-н Капельмейстер, исходатайствовать перед Его Превосходительством г-ном начальником Придворного оркестра, мне столь необходимый отпуск за границу сроком на два месяца…
Заключение Купчика похоже на то, что писал Матюшин, но с уточнениями. Имеет место нервное расстройство, осложненное «хроническим воспалением почек и перенапряжением мышцы сердца», что позволяет сделать вывод:
Крайне нуждается в основательном лечении при полном моральном и физическом покое, в отъезде за границу в один из санаториев Германии.
На иерархической лестнице каждый считает себя первым. На самом деле, это лестница в небо. Поднимаешься на ступеньку – и получаешь право оказаться на следующей. Мнение доктора важно, но только для того, чтобы двинуться дальше.
Прилагая при сем докладную записку Его Сиятельства доктора Купчика, – написано на оборотной стороне листа, – честь имею ходатайствовать перед Вашим Превосходительством о разрешении ему заграничного отпуска по лечению болезни.
Сперва мы обманулись шрифтом, а теперь доверились роскошным усам начальника оркестра. Они тоже говорили об особых возможностях. Тут выясняется, что он сам ничего не решает, а может только обратиться в следующую инстанцию.
Артист вверенного мне оркестра Михаил Матюшин, – пишет Штакельберг, – просит об увольнении его в отпуск за границу сроком на 1 месяц и 28 дней. Донося о сем Вашему Сиятельству, испрашиваю прошение на увольнение помянутого артиста в просимый отпуск.
Это последний документ, связанный с просьбой об отпуске. Сложно сказать, что было после. Если даже отпуск разрешили, Матюшин остался в городе. Может, ему стало ясно, что на поездку нужны силы, а они у него кончились.
К тому же Михаил Васильевич нашел другой выход. Теперь он общался с Еленой с помощью спиритических сеансов. Вряд ли санаторий мог ему в этом помочь. Надо, чтобы все знали ту, кого вызывают, и она – тех, кто хочет с ней пообщаться.
Приятельница назвала Елену человеком «очень оккультного склада». То же можно сказать о Матюшине. Да и как могло быть иначе? Тот, кто верит в четвертое измерение, непременно захочет вступить с ним в контакт.
Медиумом он сделал Громозову. Для него было важно, что Елена говорит через нее. Твердый голос Ольги в эти минуты становился мягче. Словно от масляных красок она переходила на акварель.
На Матюшина сеансы действовали успокаивающе. Называешь Елену, а она тут как тут. Словом или фразой поддерживает собравшихся. Вскоре он отказался от крутящейся тарелки и присутствия посторонних. Достаточно было остаться одному, и они уже разговаривали.
Происходило это примерно так:
Вчера 24 августа ясно почувствовал Елену около себя… – рассказывает запись тринадцатого года. – Я совершенно ясно ее ощущал у себя на плече. Она была очень весела и довольна и давала на все ясные ответы. Опять она говорила, что мы с ней вместе будем много работать, и это так было весело. Затем на овраге она меня повела за руку, и я, повинуясь ей, точно слепой, закружился и остановился около очень молоденькой, очень маленькой прелестной елочки, такой трогательной своей ребяческой нежностью и ясностью.
Кажется, Матюшин совершенно спокоен. Если есть четвертое измерение, эти контакты в порядке вещей. Как всегда, его удивляет только Гуро. В очередной раз она его куда-то вела, а он ей подчинялся.
Благодаря этим разговорам, кружениям и остановкам Михаил Васильевич приходил в себя. Без немецкого санатория голос стал тверже, а зрение четче. После того как она сказала: «Мы… вместе», он опять стал рисовать.
Так воскресают. Медленно, но неуклонно. Только что он не хотел никого видеть, а вдруг его потянуло к друзьям. Как вы там, Казимир и Алексей? Не хотите ли поучаствовать в моем возвращении к жизни?
Выезд на природу получил название Первого съезда баячей будущего. Провести его решили в Уусиккирко. В зависимости от места – дача, поле или озеро – каждому предстояло стать докладчиком, президиумом и залом.
Конечно, Уусиккирко. Где еще? Здесь близость Гуро ощущалась особенно – 24 августа, когда Матюшин «ясно почувствовал Елену», не меньше, чем 18, 19 и 20 июля, когда состоялся съезд.