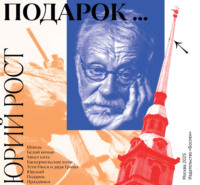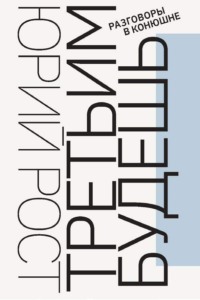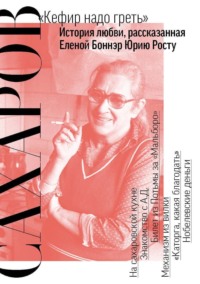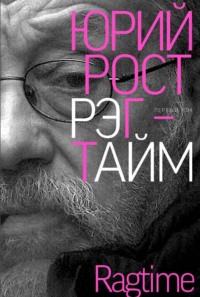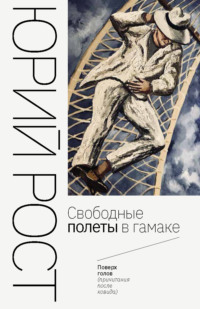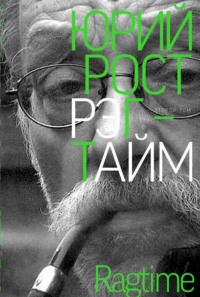Полная версия
Шел прохожий, на прохожего похожий
И вместе с этим полком пошел рядовой Богданов освобождать Польшу, Прибалтику и Восточную Пруссию. И, как вы знаете, освободил.
День Победы праздновал в Кенигсберге, том, что у Балтийского моря. «Водкой угощали и закуской».
Двенадцатого мая повезли в тылы. Восемнадцатого мая сдали оружие. А в августе, как кончилась мировая война, поехал рядовой солдат Алексей Васильевич Богданов домой в Каргополь. Да не знал он, что тот дом за войну остался без детей. Только жена Ульяна дождалась его с фронта. Одна. Было ему в сорок пятом – сорок пять, и детей они уже не нажили. Самое главное в жизни прошло. От войны осталось у него впечатление, что воевал он исправно, как поле пахал, и что наград сколь надо – четыре медали. Медали эти он надевал редко, потому что считал: теперь их у многих довольно, и уж не разберешь, верит тебе население, что ты их под пулями заслужил, или считает – за выслугу годов. И еще не надевал он медали, потому что думал: ушло военное время и надобности напоминать о нем нет. Хотя, конечно, в праздник бывал при параде и, сидя вдвоем с Ульяной за столом, пил красное вино, которое любил.
Ну вот, теперь остается рассказать, как делалась эта фотография. В парадном пиджаке со всеми четырьмя медалями и в плюшевой кепке, галифе и сапогах шел он, отвечая на вопросы и приветствия, по деревянным тротуарам Каргополя рядом со мной и гордился. А гордиться в этой ситуации надо бы только мне да юным жителям города, которые, впрочем, отнеслись к нашим съемкам с симпатией и одобрением. Один юный парничок смотался куда-то на велосипеде и привез букет осенних цветов, с которыми посоветовал мне сфотографировать рядового Богданова, чтоб на карточке получилось хорошо.
А потом мы перед тем, как распрощаться, сидели с Алексеем Васильевичем в маленькой комнате на Октябрьском проспекте в городе Каргополе и загибали пальцы, считая бывших у него детей.
– Николай – первый. Тот сразу.
Другой Николай.
Миша, Маша, Валя, Рая – эти тоже в войну.
Потом Клава, Вася, Алеша, Александр… Сколь записал? Девять?
– Десять.
– Еще одного потеряли…
– Хватит, хватит, – тихо говорит баба Ульяна, глядя в окно,
где куда-то идут чьи-то ноги.
– Правда… Зоя была еще у меня…
– Что-то девок много… Она и сама забыла все.
А вам-то чего помнить? Все быльем поросло…
– Хватит, хватит…
Одинокий борец с земным тяготением
Дикая сушь пала на землю. Горели леса, диким дымом курились болота, и тьма заволакивала города. Во тьме блуждали люди и придуманные ими хитроумные машины; и другие, еще более хитроумные, не без опасения плавали в воздухе, огибая смрадные смятения огня и дыма, и с высоты обозревали высушенную землю и постаревшие рано хлеба.
…Великой обидой метят люди естественное возмущение природы. Не понимая языка, они страшатся каждого слова ее. Воспринимая звук громом, а свет молнией, они укрывают голову руками и, причитая, молят о спасении добра, трудом возделанного и гибнущего от потоков, хотя, пойми смысл слов, прорыли бы загодя каналы и отвели воду, сохранив что посеяли, и скрылись под кровлей от грозы и ливня… или от солнца, жара и засухи: только знай наперед. Разве природа враг детям своим?
…Но годами те из людей, что мнили, будто обучены общению с ней, читали написанное неверно, и сами же толковали себя, и успокаивали других, которые им доверяли: «Все хорошо, все хорошо будет», – не угадывая знака и оттого удивляясь вероломству ее. А был знак, и видел тот знак человек и предупреждал, и кто услышал его, сохранил трудов плод, и плоды сохранил, и злаки.
В то лето семьдесят второго года, когда жаренный без всяких кулинарных ухищрений, на одном лишь солнце (в средней, заметим, полосе), петух клюнул нашего брата-журналиста, мы, забыв, что есть двести докторов, полторы тысячи кандидатов и чуть не двадцать тысяч специалистов в области предсказания погоды, бросились в предгорье Алтая, в Горную Шорию. Бросились в поселок Темиртау, который на подробной карте мелко, а на крупной вовсе никак не обозначен, к пожилому русскому человеку Дьякову Анатолию Витальевичу, именующему себя на французский манер Дьякóв.
И не было в тот год ни одного крупного издания – газеты или журнала, – чтобы не напечатало о нем заметку, репортаж, очерк или просто его предсказание погоды, удивительное тем, что сбывалось на девяносто процентов.
Когда и в следующем, 1973 году Дьяков вновь предрек засуху (не желая ее), то любопытные знали уже, что не по гадальным, а по синоптическим картам, и не на ощупь, а поняв язык природы и создав научную модель общения с ней, различал он будущие бури, снегопады и грозы при ясном небе.
А в Темиртау падал снег. Он падал давно, и розовощекие железнодорожные тетки в оранжевых жилетках, напяленных на ватники цвета шпал, прикрывали от лишней влаги оцинкованные ведра с соленой килькой, которую бойкий мужик-продавец черпал прямо из железой бочки, стоящей в открытом кузове грузовика.
…Дьякову килька нравилась. Сидя за столом, возле которого терлась кошка Нуарка, дающая прогноз на сутки (если в печке сидит – завтра холодно, если на полу – тепло), Анатолий Витальевич ел рубленый форшмак, приготовленный женой Ниной Григорьевной.
– Диккенс с гениальностью описал судьбу Французской революции, – доказывал мне Дьяков, хотя я и не возражал. – Я могу поставить его во Франции рядом с Бальзаком. Вкуснейшая еда эта килька, хотя мы рыбы и не едим…
За неделю до этого, с облаком пара входя в крохотную, вросшую в землю и покрытую латками из толя избушку, прилепившуюся к каменной башенке с куполом для телескопа, я услышал энергичный высокий голос:
– Профессор Челенджер из «Затерянного мира» Конан Дойла спустил с лестницы журналиста, даже не спрашивая, зачем он к нему пришел.
Хозяин сидел в берете за столом, заваленным книгами по астрономии, метеорологии, картами погоды, толстыми литературными журналами, газетами, испещренными на полях мелким, но разборчивым почерком – свидетельством безмолвного диалога Дьякова с остальным миром. Отвоеванное у книг пространство на столе занимали журнал синоптических наблюдений, портрет внучки и газетная фотография ткачихи, похожей на жену Анатолия Витальевича. Со стены взирали на Дьякова Галилей (просто так) и Торричелли (изобретающий термометр), на крашеном комоде тикали часы, показывая меридиональное время… Две кошки – знакомая нам Нуарка, названная чуть ли не по-французски за черный цвет, и дочь ее Муська – грелись в зеве беленой печи…
Отсюда, из этой крохотной комнатки, где долгое время жил Дьяков с женой и детьми, уходили по всему свету предупреждения людям о грядущих бурях и засухах, тайфунах и морозах. Здесь, в хибарке, гордо именуемой хозяином «гелиометеорологической обсерваторией имени Камиля Фламмариона», мы прожили с ним неделю в радостном общении, в спорах и страстных ссорах даже («Вы хотите меня исследовать?! А я не-е хочу (!) быть объектом ваших так называемых исследований!»). И здесь же Ниной Григорьевной был дан торжественный прощальный ужин с рубленой килькой и картошкой (без напитков, однако, поскольку ни Дьяков, ни его жена «белой водки» не пробовали в жизни), после чего я отправился на станцию Темиртау ожидать поезд на Новокузнецк, чтобы оттуда вернуться в Москву.
– Сейчас пойдет электричка на Чугунаш. Это, правда, в другую сторону, но вы езжайте, там теплая станция и можно ждать сколько угодно, – говорят мне оранжевые железнодорожницы, хлопая себя рукавицами по ватным бокам.
…В Чугунаше идет снег… Холмы засыпаны снегом, ели под снегом разогнули лапы, весь поселок, где из достопримечательностей лишь железная дорога и дом инвалидов, укрыт белым, в метр толщиной, снегом… Тихо летит черная птица и растворяется в белой тишине… Лишь редкий товарняк, нарушив ту тишину, прочертит на снегу две параллельные черты – знак равенства между Чугунашем и Темиртау. Между Темиртау и Новокузнецком. Между Новокузнецком…
«Сапунов! – кричит динамик на столбе. – Сапунов! Промети стрелку! Не переключается!»
Снег идет…
Телеграмма от 12 октября 1978 года. Дьяков, Темиртау – Ж. К. Пекеру, директору Астрофизического института, Париж:
«Дорогой коллега, считаю долгом отправить предупреждение по поводу суровости зимы 78/79 г. По моим предположениям, следует ожидать весьма интенсивные волны холода в третьей декаде декабря, а также января – около минус 20°».
Париж – Дьякову (несколько снисходительно):
«Спасибо за телеграмму. Мы уже одеваемся в теплые манто». (Дескать: ха-ха!)
21 декабря, в начале обещанной Дьяковым декады, «Известия» сообщили из Парижа: «Сильное похолодание вызвало резкий расход электроэнергии… Вышла из строя магистральная линия высокого напряжения. Прекратили работу многие заводы и фабрики, погасили фонари… Замерзли электропоезда… Ущерб равняется 4 миллиардам франков…»
«Спасибо за Ваше великолепное предвидение, – теперь писал Пекер. – Можете ли Вы, дорогой коллега и дорогой друг, – рукой Дьякова на телеграмме: “Теперь так!”, – прислать заметку о методике предвидения? Надо ли учитывать активность Солнца и как?»
Пожалуй, Солнце надо учитывать всегда, потому что каких вершин ни достигали бы в состязаниях с подобными себе, как ни возвышали бы себя в житейских метаниях, мы редко, быть может, уже только на закате жизни, вспоминаем, что занимали лишь одно по-настоящему достойное место, на которое попали по протекции судьбы, – место под солнцем.
Удача Дьякова в том, что он понял это еще в детстве. Может быть, потому, что родился он на юге Украины, в селе близ Елисаветграда, где солнца много. Он рос под солнцем с благодарностью и любопытством к нему.
Любопытство подогревали жаркие засухи двадцатых годов. Солнце, даровавшее всему жизнь, обрывало теперь ее бесхлебицей, голодом. Это нарушало, казалось, очевидную логику и заставляло юного Дьякова искать оправдание Солнцу в книгах ученых людей. Он читал Воейкова, Клоссовского, «Астрономические вечера» Клейна, «Мироздание» Майера, «Науку о земле» Игнатьева и постепенно убеждался: природа никого не карает и не награждает, а лишь требует, чтобы человек постиг ее законы и приноровился к ним с уважением.
В двадцать пятом году четырнадцатилетний Дьяков приблизился к Солнцу на расстояние семидесятимиллиметрового телескопа, который дал ему для наблюдений школьный учитель Петр Петрович Пелехов. А в пятнадцать лет, уже будучи членом «Русского общества любителей мироведения», читал лекции под названием «Земля как мировое тело» и «Солнце – источник жизни» перед рабочими елисаветградского завода «Красная звезда» и солдатами, которые были раза в два-три старше лектора. Слушатели, впрочем, не слишком интересовались рассказами Дьякова. Отнеся сие наблюдение на свой счет и перерешав все решительно задачи из учебников по геометрии, тригонометрии и проч., Дьяков отправился в Одессу поступать в университет на физико-математический факультет…
Может, не обязательно в подробностях описывать детство Дьякова? Но тогда не будет понятно, каким образом он изучил в совершенстве французский язык и английский достаточно (хотя по сей день считает его исковерканным французским) и «заболел» литературой в годы, когда в степях Украины театр военных действий стал театром политических миниатюр: сегодня – немцы, завтра – петлюровцы, потом – Шкуро, потом – зеленые (или наоборот), бесчисленные банды бесчисленных атаманов Григорьева, Маруськи, Махно… И наконец, красные во главе с Пархоменко, чей штаб разместился в школе, где мама Дьякова учила французскому, а отец был заведующим.
– Вот послушайте…
Дьяков, достав из стола рукопись, начинает читать. Он очень любит читать вслух. Вероятно, десятилетиями сидя в своем домике на пригорке, он истосковался по собеседникам и по звуку собственного голоса.
Я прослушал в его исполнении многочисленные выдержки из научных статей, литературных журналов, дневников; и лишь однажды, когда Анатолий Витальевич, поправив берет, взялся вслух читать из «Юманите» на непонятном мне французском языке доклад Марше на съезде ФКП, я попробовал роптать. Но вскоре затих, вспомнив рассказ сына Дьякова Камила (названного в честь Фламмариона).
В Темиртау после войны было книг для детей мало, а детей у Дьякова много – четверо, и они нуждались в духовной пище. Среди привезенных в Горную Шорию любимых книг был Жюль Верн на французском языке. Анатолий Витальевич читал его детям, переводя с листа, но, увлекшись, часто переходил на язык оригинала, а они, не смея перебить отца, часами слушали его, угадывая по интонации, «что дальше».
Дети у него выросли – грех обижаться. Лена – синоптик в аэропорту, Александр – летчик, Валерий – горный инженер, Камил – астроном.
Значит, слушаем Дьякова:
– Отец был ироничен, любил высмеивать. Он был и пессимист, а между тем человек либеральный, умный и начитанный. Верил в провидение, но был против поповства. Кристально честен и абсолютно безразличен к материальным благам. Любимыми писателями были Некрасов, Чехов и Салтыков-Щедрин. Отец интересовался и политической литературой. Читал Добролюбова, Чернышевского, даже Энгельса и Маркса. Он знал древних авторов, вполне свободно владел латынью, – тут Дьяков значительно повернулся ко мне от рукописи, подняв брови, – и греческим (!).
По тому, что я знаю об Анатолии Витальевиче, характеристика эта вполне годна и для него самого, за исключением разве любимых писателей: тут будут Жуковский, Алексей Константинович Толстой (он открывает книжку: «Посмотрите, какое лицо!»), Фламмарион, Жюль Верн, Лондон, Марк Твен, Уэллс.
– А Пушкин?
– Пушкин написал массу чепухи: «Родила царица в ночь не то сына, не то дочь, не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку…»
– Это же говорит герой сказки.
– Зна-аю! Но все равно не бывает так. Мужская и женская клетки складываются, и начинается жизнь. У кошки рождается кошка, у собаки – собака.
– Вы не любите Пушкина?
– Любил, пока он был романтик, до Одессы. Впрочем, в Одессе он тоже был романтик. Это такой город, где надо быть романтиком.
В Одессе, однако, ни Пушкин, ни Дьяков долго не задержались. Александр Сергеевич отправился, как мы знаем, в Михайловское, Анатолий Витальевич, окончив Одесский университет, поступил в Московский на четвертый курс мехмата, где в течение двух лет учился у выдающихся ученых Ф. Фесенкова, А. Михайлова, А. Тихонова, И. Тамма, хотя был рекомендован в аспирантуру в Одессе.
– Вот читайте, написано собственной (!) рукой профессора Кулика: «…ряд данных Дьякова лег в основу…» – Дьяков откинулся в кресле и сложил удовлетворенно руки на груди, на мгновение, впрочем. – Дальше!..
«…Все эти работы показывают в Дьякове способного, с солидным фундаментом знаний, аккуратного, точного и вдумчивого… из него может выработаться высококвалифицированный работник, полезный для советской науки…»
– Вы прочли?
– Прекрасный слог.
– Вот. Теперь будет кому написать обо мне некролог, а то Федорова нет, Евгения Константиновича. Он поддерживал меня, хотя тоже считал, что у атмосферы – короткая память.
– А вы считаете – долгая?
– А как же!!! Циклы же существуют. Ломоносов еще обнаружил длинные волны. Длинные волны – долгая память.
Вошла жена:
– Слабый снег пошел.
– Запишем: ровно в час. Слабый «полярный» снежок. Наш хороший, пушистый.
И в Чугунаше снег. Несколько человек стоят у бревенчатого сруба станции. Инвалид просит сигарету или папиросу, но никто не курит, и он, повернув к падающему снегу плоское, как циферблат без стрелок, лицо, шепчет: «Не курят, потом приду»; уходит с палочкой по заснеженным путям. Сивая лошадь протащила сани. Из саней выходят три мужика. Один толстый, краснолицый, кривоватый, с нечесаной бородой и крестом на суровой нитке, другой – с бородой ухоженной и белой и третий – с усами и вовсе небритый.
Подходит человек городского вида. В руках у него постромки от санок, на которых стоит привязанное бельевой веревкой старое оцинкованное корыто для детского купания. В корыте сверток, укутанный в одеяло.
– Мясо вот в город везу. Тут купил в октябре и повесил у него, – он кивнул на толстого, – в сарае. Птицы не клюют, и ладно… Вы из газеты? Меня тоже недавно в газету поместили. Ты, Василий Георгиевич, как бы герой, и все такое. Я и вправду участник войны и Парада Победы. Никто не верит. А и не надо. Давно было. Да и далеко отсюда. Правда, деды?
Он умолкает, потом кивает на спутников:
– А это деды наши… Надо бы мне их угостить, да нечем.
Толстый снимает варежку и машет рукой: э-эх! Два других отворачиваются и молчат. И мы все идем к станции – домику красного кирпича, из трубы которого валит дым.
– Сейчас погреемся, – говорит Василий Георгиевич. – Жаль, буфета нет, как в городе, а то б я дедов угостил.
Толстый машет рукой, двое других никак не реагируют на слова Василия Георгиевича.
Динамик на столбе из-под снежного шлема кричит в глухую белизну: «Сапунов, черт, прочисть стрелку, не переводится!»
Снег идет. Тихий, вялый снег.
Срочная телеграмма от 23 августа 1978 года. Капитан научно-исследовательского судна «Сергей Королев» Нижельский – Дьякову:
«Прошу сообщить погодные условия Северной Атлантике районе полуострова Сэйбл период сентябрь – октябрь месяцы».
28 августа, срочная телеграмма. Дьяков – Нижельскому:
«Глубокоуважаемый капитан, сообщаю свои предположения. Штормовая погода с усилением западных и северо-западных ветров и волнением свыше 5 метров следующие периоды: 5–7 сентября, 24–28 сентября, 10–17 октября, 27–28 октября. Особенно сильных штормов следует ожидать в третьей декаде сентября и во второй октября. Усиление ветра до 35 м/сек., волнение свыше 8 баллов. Температура воздуха в сентябре плюс 12–20, в октябре плюс 8–15. Следует опасаться айсбергов, движущихся в сторону Ньюфаундленда. Число их увеличится в третьей декаде сентября. С уважением и приветом Дьяков».
«Глубокоуважаемый Анатолий Витальевич! Ваши предположения подтвердились полностью. Даты штормовой погоды, указанные Вами, совпали абсолютно точно. От имени экипажа выражаю искреннее восхищение Вашей работой. Нижельский».
Правда, к моей идее, что примета – это предупреждение о том, что и без приметы состоится, и что бояться не надо ее, а только учитывать, Дьяков отнесся скептически.
– Рассыпанная соль, – умничая, говорю я, – есть не причина ссоры, а следствие того, что ссора обязательно состоится. Следствие, заброшенное во времени прежде причины. То есть всего лишь предупреждение, знак. И знаку этому надо отчасти радоваться как пусть неприятной, но реальной информации об ожидающих тебя невзгодах.
– Теперь что вы ни говорите – все ерунда. Вы, верно, так и пишете?.. – сказал он и внимательно посмотрел на меня.
То, что Анатолий Витальевич, получив образование в двух университетах, являясь действительным членом Французского астрономического общества и автором нескольких научных статей, в 1935 году, в возрасте двадцати четырех лет, оказался с теодолитом на прокладке железной дороги Мундыбаш – Чугунаш (знакомый нам) – Таштагол, можно было бы воспринять как дурную примету для его научного будущего. Он мог превратиться в просвещенного обитателя, наблюдающего бурные и разнообразные процессы в природе и обществе и никак не связывающего их с тихим утеканием собственной жизни. Но так не произошло, потому что, уловив примету времени, он счел необходимым посчитаться с ней.
Ссылка Дьякова в Сибирь за оглашенное вольнодумство спасла его от лагерей и гибели. Он это понял. Произойди арест двумя-тремя годами позже, получил бы Анатолий Витальевич свои десять лет без права переписки и исчез навсегда, а так – всего лишь принудительное поселение. Красота.
Кузнецк был любимым и беспокойным ребенком страны. С его развитием связывали не отдаленное будущее, а буквально завтрашний день отечественной металлургии. Между тем юг Западной Сибири был климатическим белым пятном.
На строительстве дороги, которое нас интересует, поскольку речь идет о Дьякове, действовали три метеостанции. Они не давали прогнозов, а лишь комментировали проявления погоды, а это не устраивало Кузбасс. В тридцать шестом году Дьякова вызвал главный инженер стройки Егоров:
– Вы будете главным метеорологом Горно-Шорской железной дороги. Астроном все-таки! Три станции – ваши. Будете давать трехдневный прогноз.
Он согласился, хотя ошибка в ту пору на той стройке стоила дорого – суровыми были и погода, и время…
Пропустим описание метеостанции Ахпун (Темиртау), где он сменил бывшего наблюдателя, народного учителя Александра Ерофеевича Попова, и отправимся с Анатолием Витальевичем в Амзас и Усть-Амзас «в довольно уравновешенном состоянии духа, скорее в радужном настроении, чем печальном, хотя порой мелькала мысль, что по своему характеру предложенная мне деятельность напоминает положение древнего Дамокла, усаженного под острием меча, подвешенного над головой на конском волоске по приказу тирана Сиракуз Диониса».
«В Амзасе метеостанцией заведовал бывший католический патер Людвиг Бехлер, родом из поволжских немцев-колонистов, переселившихся в Сибирь еще в прошлом веке. Не поладив, видимо, на идеологической почве с местными властями и сельским активом, развернувшими энергичную антирелигиозную пропаганду, как это было повсеместно в нашей стране в начале тридцатых годов, патер Бехлер оказался анахоретом на стройке железной дороги в роли метеоролога-наблюдателя. Высокий, крупный, с лицом наподобие Мартина Лютера, он говорил по-русски с типично немецким акцентом, как Карл Иванович из “Детства” Толстого в передаче Игоря Ильинского, смягчая губные согласные и шипящие звуки русского языка: “Страстфуйте, страстфуйте, прошу пожалофать в моя келья…”»
Первый прогноз Дьяков дал 12 июля 1936 года. Качества, перечисленные «собственной рукой профессора Кулика» в научной характеристике, Дьяков оправдывал в новой для себя роли. Математика, астрономия и год пешей ходьбы с теодолитом оказались весьма кстати в метеорологии. Второй прогноз был тоже неплох: «Малооблачная погода благоприятна для строительных работ».
А потом начались дожди, и, хотя он их исправно предсказывал, начальство гневалось, словно он был виновником несчастий. У Дьякова появилось ощущение, будто он несет ответственность не за прогноз, а за погоду собственно…
Теперь Анатолий Витальевич смог бы предсказать с большей вероятностью, когда закончится непогода, но тогда долгосрочные прогнозы были недоступны ему, и он ежедневно с «печальным видом, с тоской в душе» приносил прогноз: «Сплошная облачность, сплошные дожди…»
…А в Чугунаше – снег.
Два мужика в телогрейках наливают в водопроводную колонку керосин и жгут его, отогревая ото льда. Они провожают нас долгими взглядами…
Одинокий человек в ватных штанах и бушлате нетвердо и с усилием преодолевает снежный склон. Он останавливается у калитки и ждет, пока отлается собака, но она не умолкает. «Жучка! – говорит он заискивающе. – Ты чё ругаешься, чё шумишь? Ну пьян, пьян, Жученька. Не ругайся».
У входа в зал ожидания пожилой железнодорожник скалывает лед топором, приваренным к лому в виде наконечника.
– Этова Пониклева несчастного я знал, и всех их два десятка детей, и жену его… – говорит старик с ухоженной бородой, то ли продолжая начатый когда-то разговор, то ли затевая его для меня. – Теперь Пониклев в холме лежит, а она – потаскуха. Ну… Я с ними рядом жил.
Ледокол, здороваясь, сторонится, пропуская нас в теплый зал ожидания, обставленный деревянными скамьями с вырезанными на спинках буквами МПС. В углу окошко кассы с расписанием поездов.
– Это старое, – говорит Василий Георгиевич, – недействительное.
Он смотрит в большое, мелко переплетенное окно. Там идет снег.
«Сапунов! Где тебя носит, Сапунов?!»
Телеграмма от Дьякова 28 июля 1981 года – Центру штормовых предупреждений:
«Считаю долгом сообщить, что в течение периода 5–20 августа следует ожидать оформления весьма глубоких циклонов в Северной Атлантике. У берегов Мексиканского залива, Карибского моря, на востоке США должны появиться ураганные ветры более 40 м/сек. В морях Дальнего Востока от Филиппин до Японии в августе должны пройти весьма сильные тайфуны. С уважением и приветом Дьяков».
8 августа, «Известия»: «5 человек погибло, 70 домов полностью разрушено, 19 тысяч затоплено, в десятках мест повреждены железные дороги. Таковы последствия тайфуна над островом Хоккайдо».
11 августа, газета «Советская Россия»: «Сильнейшие ливневые дожди стали настоящим стихийным бедствием для американского города Уотертаун (штат Нью-Йорк). Вода затопила нижние этажи домов, работа магазинов, транспорта почти полностью прекратилась… Ущерб составляет несколько миллионов».
16 августа, «Правда»: «Тайфун Филипс налетел неожиданно, с невиданной силой он обрушился на Сахалин».
Воспользовавшись ясным днем, Дьяков проводил наблюдения Солнца. Пройдя в башенку и сдвинув купол, изготовленный по его чертежам на Кузнецком металлургическом комбинате (где любят и поддерживают Анатолия Витальевича), он направил небольшой, почти ученический телескоп, подаренный когда-то академиком Тихоновым.