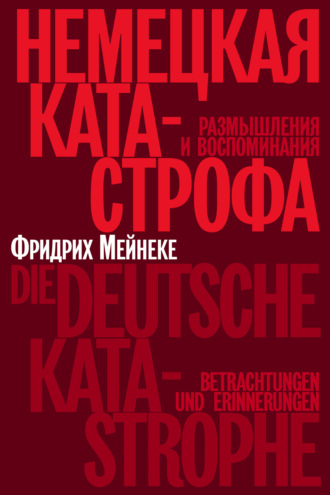
Полная версия
Немецкая катастрофа. Размышления и воспоминания
Однако можно ли было надолго разделить две большие волны Запада? Были ли они обречены находиться в борьбе и противоречии друг с другом, могло ли произойти их внутреннее соединение? Неудачная попытка такого соединения должна была обернуться большим несчастьем для страны и всего мира – что и случилось во Второй мировой войне. Но нужно признать, что обе волны – национальное движение не в меньшей степени, чем социалистическое – имели в основе глубокое историческое право. Они не являлись, как можно было бы заключить из Буркхардта, лишь побочными результатами разнообразных человеческих страстей. Они представляли собой инстинктивные попытки решить проблемы человечества, возникшие в результате неслыханного в мировой истории роста населения. К примеру, даже в империализме, нарушителе мирового спокойствия, мы видим разумное зерно – заботу об экономических основах существования собственного народа. Похожее беспокойство жило и в социализме, который, однако, искал совершенно иной выход. Но отложим поиск ответа на вопрос о возможности сочетать притязания двух волн и посмотрим на реально предпринятые попытки соединить их друг с другом. Ограничимся экспериментами, предпринятыми в Италии и Германии.
С объединением национальной и социалистической волны в этих странах была связана идея придать получившемуся результату твердость и прочность за счет авторитарной, централизованной, освобожденной от всех парламентских ограничений власти над государством, народом и отдельными людьми. При этом отбрасывалась целая система идеалов, являвшихся до этого на Западе объектом искреннего почитания. Идеалов не только либеральных и гуманистических, ориентированных на счастье и свободу индивида, но и старых христианских – в той степени, в которой они говорили о спасении отдельной души. Благодаря заботе о душе каждого христианство являлось колыбелью гуманистического либерализма, который, в свою очередь, можно воспринимать как секулярное христианство.
Однако в новых авторитарных системах, итальянской и немецкой, в центре находилась не душа человека, не индивид, находилось единое целое, представлявшее собой прочный сплав отдельных душ. Душа потеряла свою ценность на фоне этого целого. Такой чудовищный переворот, такая неизмеримая потеря прежних культурных идеалов были бы оправданными только в том случае, если бы они одновременно породили новые, неизвестные ранее ценности. Смогло ли целое приобрести все, что хотело, поглотив силу и душу индивидов?
В рамках нашей книги нет смысла много говорить об Италии. Фашистские одежды с самого начала плохо подходили итальянскому национальному характеру. Итальянский народ богат творческими силами и непреходящими культурными достижениями, однако он не является народом-солдатом и не годился для поставленной Муссолини перед ним задачи – превращения Италии в мировую державу. Близким итальянскому духу был лишь риторический элемент фашизма – его способность опьянять себя мечтами о славе и величии. Размахивая саблей, но не извлекая ее из ножен для большой и серьезной борьбы, Муссолини смог прекрасно удерживать власть на протяжении двух десятилетий и создавать видимость великой державы. На путь к гибели он вступил в 1940 году, став после нашей неожиданной большой победы над Францией сообщником Гитлера – возможно, вынужденный шаг, чтобы не утратить престиж и авторитет. Если бы не Гитлер, он, может быть, еще долго мог бы удерживать власть, придерживаясь отработанной тактики.
С 1940 года его эксперимент страдал еще от одной элементарной проблемы: Италия недостаточно хорошо обеспечена сырьем и продовольствием для того, чтобы быть великой державой первого ранга, рискующей бросить вызов мировым империям. То же касается и Германии, хотя ее положение несколько более выгодное. Трезвый наблюдатель мог сделать такой вывод уже на основании опыта Первой мировой войны. С нашей стороны желание стать мировой державой было авантюрой. Однако вся авантюрность подобных планов оказалась очевидной только во время Второй мировой войны, развязанной Гитлером и его партией. Какие корни в истории германского народа были у этого эксперимента? В следующих главах мы попытаемся дать ответ на этот вопрос.
2. Немецкий народ до и после основания империи
Начать нужно с того, что обе большие волны XIX века – национальная и социалистическая – имели в Германии свой индивидуальный облик и активно взаимодействовали друг с другом. Их столкновение и борьба оказались здесь более жесткими, чем у других народов. В результате оба движения приобрели воинственный характер, который при попытке соединить их в подходящий исторический момент должен был оказать на исход этой попытки зловещее влияние. Данное обобщение нужно теперь подтвердить конкретными фактами.
Национальная волна поднялась в Германии примерно за полвека до социалистической. Новый буржуазный средний класс появился на сцене гораздо раньше, чем новая пролетарская масса. Простая причина роста последней – технико-экономический переворот[9] – начался у нас позднее, чем в Западной Европе. В то же время ранее созревание и высокий духовный расцвет буржуазного среднего класса объясняются его умножением, начавшимся еще в XVIII веке.
О национальном движении в полном смысле слова – когда речь идет о национальных чувствах не отдельных людей или малых групп, а целых слоев общества – можно говорить только со времени оккупации и Освободительных войн[10]. С этого же времени начинаются определенные перемены в самой сущности немецкого народа, которые необходимо знать, чтобы хоть как-то понять нашу судьбу. Вильгельм фон Гумбольдт[11] с присущей ему остротой восприятия уже в 1815 году заметил изменения, казавшиеся ему одновременно приобретением и потерей, но все же, вероятно, потерей более, чем приобретением. Он смотрел на полных патриотизма воинов и говорил о том, что видит в них новый великий и благородный характер, хотя и намного более привязанный к повседневности, чем у поколения Гёте, к которому принадлежал он сам и которое было способно подняться выше обыденной реальности.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Ясперс К. Вопрос о виновности. О политической ответственности Германии. М., 1999; 2022. Здесь и далее примеч. пер.
2
Мейнеке Ф. Возникновение историзма. М., 2004.
3
Вильгельм Грёнер (1867–1939) – немецкий генерал и политик. Поддерживал Веймарскую республику, в которой занимал ряд важных государственных постов. В 1928 г. был назначен министром рейхсвера (военным министром), в 1931 г. стал одновременно министром внутренних дел. В 1932 г. начал проводить более жесткий курс в отношении национал-социалистического движения, в частности, став инициатором запрета штурмовых отрядов (СА). В том же году покинул свои посты в связи с отставкой кабинета Генриха Брюнинга.
4
Генрих Брюнинг (1885–1970) – немецкий политик, один из руководителей католической партии Центра. В 1930–1932 гг. занимал пост имперского канцлера. На этом посту ему пришлось иметь дело с тяжелыми последствиями экономического кризиса, стремительным ростом популярности радикальных партий, нарастающей нестабильностью политической системы Веймарской республики. В результате Брюнинг был вынужден править, опираясь не на парламентское большинство, а на президентские декреты, что дополнительно расшатывало конституционную систему. Стремился добиться отмены репараций, для чего откладывал принятие антикризисных мер внутри страны. Несмотря на определенные внешнеполитические успехи, провал внутренней и экономической политики Брюнинга привел к тому, что он утратил доверие президента и стал мишенью для критики различных политических сил. В мае 1932 г. вышел в отставку. После прихода Гитлера к власти, в мае 1933 г. стал последним председателем партии Центра перед ее роспуском. В 1934 г. эмигрировал.
5
Людвиг Бек (1880–1944) – немецкий генерал, в октябре 1933 г. стал главой Войскового управления в министерстве рейхсвера, в 1935 г. преобразованного в Генеральный штаб сухопутных войск. На этом посту активно участвовал в наращивании германских вооруженных сил, однако выступал против военных планов Гитлера, считая их авантюрными. Стал одним из организаторов оппозиции режиму в рядах высшего командного состава. В 1938 г. отправлен в отставку. В дальнейшем являлся одной из центральных фигур консервативного Сопротивления, участвовал в подготовке заговора 20 июля, после провала которого застрелился.
6
Ужасных упрощателей (фр.) – термин, который знаменитый швейцарский историк Якоб Буркхардт употребил в 1889 г., обозначив им будущих демагогов и популистов, которые возвысятся благодаря демократической системе и, придя к власти, уничтожат права и свободы.
7
Позади всадника сидит черная забота (лат.).
8
«Прусский ежегодник» – один из наиболее влиятельных интеллектуальных журналов Германии, выходивший с 1858 по 1935 г. Изначально отличался умеренно либеральными политическими симпатиями, затем в возрастающей степени склонялся к консервативному национализму.
9
Имеется в виду Индустриальная (Промышленная) революция.
10
Речь идет об оккупации германских государств французскими войсками в ходе Наполеоновских войн, последняя фаза которых – 1813–1815 гг. – получила в немецкой традиции название Освободительных войн.
11
Вильгельм фон Гумбольдт (1767–1835) – немецкий ученый-гуманист и государственный деятель, основатель Берлинского университета. Выступал за реформы образовательной системы, которые обеспечивали бы развитие индивидуальности.



