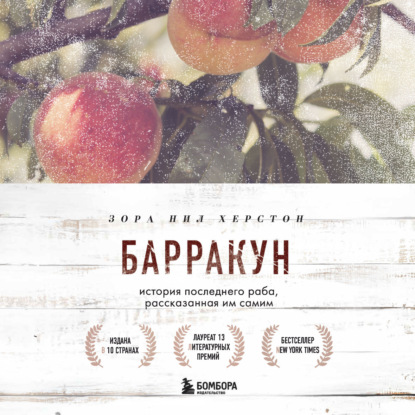Полная версия
Рецепт любви. Жизнь и страсть Додена Буффана
– Рабас, – сказал Доден, тихо обращаясь к доктору после продолжительного раздумья перед телом, – предупредите распорядителя, что я хочу произнести речь на кладбище.
Доден-Буффан действительно говорил на краю могилы. Весь маленький городок стал свидетелем его скорбной боли. Он посчитал, что воспевание покойной будет сродни выступлению в защиту искусства, которое она почитала больше всего на свете, возможностью изложить его основные принципы, раскрыть его философию и в глазах простого обывателя вернуть кухне то достойное место, которое она заслуживала по праву. И там, на этом тихом провинциальном кладбище, окруженном цветами, тенью и близлежащими ручьями, среди скромных могил неизвестных земляков он произнес речь более пламенную, чем на торжественных заседаниях, которые под эгидой закона открывал с высоты своего председательствующего места:
«Дамы и господа,
Похороны Эжени Шатань по моему страстному желанию должны стать апофеозом невыразимого горя. Сегодня я не только оплакиваю преданную соратницу, но и воздаю должное благородным усилиям всей ее жизни, которые многими несправедливо оспариваются. Я глубоко верю, дамы и господа, что гастрономия претендует на то, чтобы встать на одну ступень с наивысшими формами искусства, занять свое место среди творений человеческой культуры. Я утверждаю, что, если бы не какая-то немыслимая несправедливость, которая ошибочно лишает вкус способности порождать искусство, но безоговорочно признает эту способность за зрением и слухом, Эжени Шатань заняла бы по праву достойное место среди величайших художников и музыкантов.
Являются ли истинными сокровищами, драгоценными творениями блюда, представляющие собой тончайшее единение тонов, вкусов и оттенков, невероятное чувство меры и гармонии, совмещение противоположностей, наконец, гениальность в стремлении удовлетворить потребности нашего вкуса, или это есть исключительная прерогатива тех, кто смешивает краски и соединяет звуки? Вы скажете, что блюда на столе лишь мимолетные творения, что это шедевры без будущего, быстро погребенные в забвении времен!
Несомненно, эти шедевры более долговечные, чем произведения виртуозов и комедиантов, которые вы восхваляете. Разве гениальные творения Карема[2] или Вателя[3], потрясающие работы Гримо де Ла Реньера[4] или Брийя-Саварена[5] не живы среди вас? Многие полотна мастеров-однодневок исчезли из поля зрения людей, но до сих пор можно отведать сливочную заправку неизвестного повара де Субиза[6] или курицу победителей под Маренго[7]. Господа, я стыжу тех, кто утверждает, что человек ест только для того, чтобы прокормиться, за их пещерный примитивизм. Они с тем же успехом могли бы предпочесть Люлли или Бетховену вой зубра, а Ватто или Пуссену – грубые наброски доисторических существ. Наше чувственное восприятие многогранно и неразделимо. Тот, кто взращивает его, взращивает его целиком, и я утверждаю, что фальшивым художником является тот, кто не является гурмэ, и фальшивым гурмэ – тот, кто ничего не смыслит в красоте цвета или эмоциональности звука.
Искусство – это восприятие красоты через призму чувств, всех чувств человека, и я заявляю, что для понимания ревностной мечты да Винчи или проникновения во внутренний мир Баха нужно научиться обожать ароматную и неуловимую душу темпераментного вина.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Ратафия – настойка испанского (каталонского) происхождения, получаемая настаиванием спелых плодов (часто ягод) на 90-градусном спирте с прибавлением к настою сока и сахара. Иногда ошибочно определяется как наливка или ликер. От ликеров отличается меньшим содержанием сахара и (как правило) большей крепостью, от наливок – тем, что для приготовления ратафии не просто настаивают спирт на плодах, но и добавляют к настою выжатый плодовый сок. – Здесь и далее примеч. пер.
2
Мари-Антуан Карем (фр. Marie-Antoine Carême) – известный французский повар, один из первых представителей так называемой «высокой кухни». Имел прозвище «повара королей и короля поваров».
3
Франсуа Ватель (фр. François Vatel) – французский метрдотель, мажордом и кулинар швейцарского происхождения.
4
Александр Бальтазар Гримо де Ла Реньер (фр. Alexandre-Balthazar-Laurent Grimod de La Reynière) – французский гастроном и кулинарный критик, один из зачинателей этого жанра.
5
Брийя-Саварен (фр. Jean Anthelme Brillat-Savarin) – французский философ, кулинар, юрист, экономист, политический деятель, музыкант. Автор знаменитого трактата «Физиология вкуса».
6
Субиз (фр. Soubise) – соус французской кухни на основе бешамеля и обжаренного лука. Изобретение соуса приписывается неизвестному повару, который посвятил его принцу де Субизу (1715–1787), герцогу и маршалу Франции, интересовавшемуся кулинарным искусством своей страны и считавшемуся знатоком в этой области.
7
Цыпленок Маренго (фр. Poulet Marengo) – французское блюдо из курицы. Готовится из кусков курицы, обжаренной в масле, затем тушится с белым вином, чесноком и помидорами, подается с яичницей, раками и гренками. Блюдо было названо в честь битвы при Маренго, победы Наполеона в июне 1800 года.