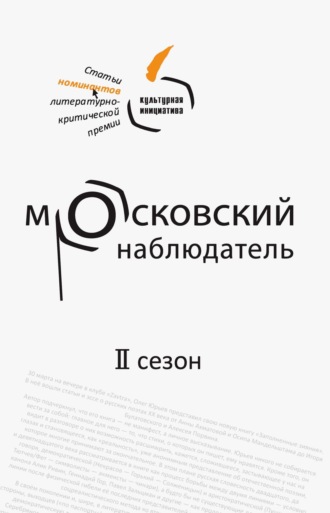
Полная версия
Во время представления книги 10 сентября в клубе «Дача на Покровке» Александр объяснял, почему он решился на такой опыт. «Лежать на диване и ждать, пока тебя найдёт какой-то “свой” читатель, – это советская привычка. Все российские писатели отвечали на вызовы своего времени», – говорил он. На вопрос, не мешает ли ему литература заниматься журналистикой (или наоборот), отвечал, что это совершенно разные профессии. «Журналистика – это ремесло, которое требует определённого профессионализма, умения выполнить работу к определённому сроку и так далее. Работа писателя – это и удовольствие, и мучение. А когда она закончена, ну что ж, как уже давно сказано: “не продаётся вдохновенье, но можно рукопись продать”…»
Роман «Музей революции» он писал четыре года. В книге много героев, несколько сюжетных линий, а также странных и поразительных предсказаний – так, среди персонажей есть современные художники, которые с пилами идут в церковь совершать протестную акцию. В книге есть и трагикомические, очень точные и одновременно неожиданные сцены. Например, эпизод отпевания, когда архиерей забывает заупокойную молитву, а его секретарь быстро находит её через поисковую систему и даёт читать епископу со своего мобильного телефона.
Во время вечера слушатели задавали автору самые удивительные и изощрённые вопросы. Вот один из них: главного героя зовут Теодор Казимирович Шоммер, не связана ли эта фамилия с шумерами?
Автор ответил, что такое ему даже в голову не приходило. Прочим собравшимся оставалось только думать о том, что, каков бы ни был прогресс, удовольствие от личной встречи с писателем, да ещё в интерьерах старого московского особняка, ничто не заменит.
Марк Кирдань
Мир в ожидании превращения.
Презентация книги Наталии Черных «Из писем заложника»
http://kultinfo.ru/novosti/1063/
17 сентября в «Билингве» прошла презентация новой книги Наталии Черных «Из писем заложника». Очередной выпуск из «тонкой» серии «Воздуха» неожиданно, хоть и не случайно стал выпуском знаковым, почти поворотным. В нём проведена спокойная, точная линия, разделяющая прошедший век и век настающий. Переход в классическую форму сущностей «зыбко-актуальных», нечто, позволяющее увидеть сухую, бесповоротную явь – реальностью мифозакреплённой, оправданной, ничем в художественном смысле не проигрывающей другим, уже ставшим и сбывшимся литературным реальностям. Перед чтением Наталия поблагодарила Дмитрия Кузьмина за это издание, за дружбу, «несмотря на то что она никогда не была его любимым автором», а сам Дмитрий, пришедший несколько позже, произнес сердечную, отчасти и меланхолическую речь – и о времени проходящем, и об изменяющейся Наталии, и о юбилее «Вавилона».
Торжественное чтение, возможно, примирило «и те, и эти» столь разошедшиеся поэтики, и стороннему слушателю, то есть мне, было бы и ни к чему задумываться об актуальности-неактуальности, традиции-нетрадиции, а также степени «религиозного сознания», которое так упорно припоминают критики, говоря о стихах Наталии, будто поэзия вообще бывает не-религиозной, будто этот фактор сам по себе может объяснить вообще всё. Отнюдь – и «религиозные» и «не-религиозные» поэты, как правило, скучны, если это для них единственный повод что-либо писать. Но у Наталии происходит совершенно безатрибутное, самодостаточное связывание с Градом Небесным, Земля же становится его частью, Землехождение и предчувствие торжества, сочетание образов слишком земных с образами слишком неземными, их взаимное превращение – всё это сложно передать словами, и поэтому всё это передаётся поэзией, просто поэзией.
Вечер для меня завершился небольшим спором с отцом моей жены, который пришёл с нами на презентацию. Он, художник, своим творчеством весьма близок, как в таких случаях говорится, родственен Наталии. Я об этом подумал после «Лета в Отрадном», осеннего цикла. Сумерки, чёрные деревья, замкнутый, маленький, громадный мир в ожидании всё того же превращения. Тем не менее отец, с трудом воспринимающий стихи на слух, этого подобия не заметил. Ему увиделось нечто и вовсе противоположное. И как же это странно, даже на ревность похоже. И ведь так мало людей, приходящих к подобным темам, в наш электро-бетонный век. Может быть, поэтому их все любят, «и те, и эти»?
Полина Андрукович
Без оппозиции.
«Полюса». Герман Лукомников – Русская поэзия
http://kultinfo.ru/novosti/1064/
[1]
«Et dans nos coeurs, pauvre joueur d’accordeon, il fait, ma foi, beaucoup moin froid, qu’au Pantheon» («и в наших сердцах, милый аккордеонист, гораздо менее холодно, чем в Пантеоне») – это из песенки Ж. Брассанса (имеется в виду здание Пантеона в Париже, где покоятся монархи и иже); пантеон Русской Поэзии, а у нас было теплее благодаря Герману и его голосу, похожему, действительно, на звучание французского аккордеона – тем же теплом человеческим и гармонической музыкальностью; мир – хаос энергий, и немногим дано умение структурировать и гармонизировать их по-доброму (а не с помощью насилия), и в этом умении, присущем Герману Лукомникову, – огромная сила; и Русская Поэзия была прочитана с этим умением, и стихи самого Германа – конечно, развитие, а не «оппозиция Русской Поэзии» – как переход от общего к частному (и обратно – от частного к общему, – как положено художнику при создании живописного полотна). «А полюсности и нет», – коротко написал мне Вася Бородин в ответ на рассказ о вечере Лукомникова; «не знаю» – («в чём ваша полюсность?» – было вопросом) – ответил Герман, а, на мой взгляд, и «знать» не о чем, раз её нет; просто прогресс идёт к личному, человеческому, к общению не сквозь воронки громкоговорителей; а как тихи бывают стихи из классики – тоже было ясно показано… спасибо Герману за глоток воды, – вовремя, в хаосе…
Ольга Бугославская
Инвентаризация литературного пространства.
Презентация книг Сергея Чупринина «Русская литература сегодня:
Малая литературная энциклопедия» и «Признательные показания.
Тридцать портретов, девять пейзажей и два автопортрета»
http://kultinfo.com/novosti/1087/
Как отметил в недавней статье Дмитрий Губин, в последнее время становится модно быть умным. А по словам Евгении Вежлян, сегодня модно обсуждать книги. В контексте двух этих отрадных тенденций поговорить о новых книгах Сергея Чупринина, как говорится, сам бог велел. На состоявшейся 25 сентября сего года презентации в клубе «Билингва» автор представил сборник очерков «Признательные показания» и справочное издание «Русская литература сегодня: Малая литературная энциклопедия» – итог инвентаризации и переписи населения внутри литературного пространства, которыми Сергей Чупринин занимался в течение многих лет. Присутствовали в клубе «Билингва» Ирина Роднянская, Татьяна Малкина, Дмитрий Бак, Анатолий Курчаткин, Елена Холмогорова, Николай Богомолов, Борис Дубин, Карен Степанян, Валерия Пустовая и многие другие писатели, критики и литературоведы, излишне добавлять, что замечательные и выдающиеся.
Главная проблема, которая традиционно и неизбежно возникает во время литературных дискуссий, называется «никто ничего не читает». Сам Сергей Чупринин поднял этот вопрос, отметив, что писатели от критиков сегодня отличаются тем, что критики писателей читают, а вот писатели критиков – нет. Борис Дубин констатировал, что в более широком общественном плане читательская активность сегодня является для нашей страны как никогда низкой и что не читают даже те, кто по всем показателям должны бы читать и раньше при прочих равных читали всегда.
Здесь следует оговориться. «Никто» и «ничего» – это всё-таки чересчур. Опыт многих авторов, представляющих, например, научно-популярную литературу, показывает, что востребованность книги определяется не столько тем, чему она посвящена, сколько тем, как она написана. Будь это хоть учебник по сопромату, если он вышел из-под талантливого пера, благодаря которому объект исследования преодолевает узкую специальность и специфичность, то он вполне может претендовать на внимание достаточно широкой аудитории. Кроме того, реклама и PR вбили всем в головы почти уже непреодолимые стереотипы в отношении той самой пресловутой «широкой аудитории»: домохозяйкам – дамские романы, офисным клеркам – Акунина, и тем и другим – «Cosmopolitan». А у домохозяек и клерков может быть по два высших образования и по два-три иностранных языка припасены на случай, если им когда-нибудь предложат что-то более интересное. Применительно к книгам Сергея Чупринина дело может выглядеть следующим образом. «Малая литературная энциклопедия», как и предшествовавшее ей фундаментальное издание «Новая Россия: мир литературы», – вещь специальная, предназначенная для самих литераторов, критиков и работников кафедр современной русской литературы. То есть для людей, находящихся внутри процесса. Выступавший на презентации Дмитрий Бак засвидетельствовал, что справочники Сергея Чупринина стоят у него на столе и всегда находятся под рукой. Действительно, на столе Дмитрия Бака им самое место. Читатель же извне, то есть не из литературного круга, читая «Новую Россию» или «Малую энциклопедию», просто не сможет понять, какое отношение все перечисленные в этих книгах добрые люди и их многочисленные заслуги имеют лично к нему и что он должен делать с полученной информацией.
Совсем другое дело – «Признательные показания». В собранных здесь очерках максимально глубоко и со стопроцентным попаданием в самую суть раскрываются личности тех людей, кому они посвящены. Как в лучших литературных произведениях, судьбы героев приобретают всеобщую значимость, казённо выражаясь, в них каждый может узнать себя. Вопрос о том, зачем мне всё это знать, не возникает. Читаешь и оторваться не можешь. Уже надо прерваться и заняться другими делами, а всё никак. И в результате так и идёшь заниматься другими делами с раскрытой книжкой, спотыкаясь на ходу. Эта книга в хорошем смысле прибавляет читателю хлопот. Елена Холмогорова заметила, что, прочитав очерк «Литератор: Пётр Боборыкин», с ужасом осознаёшь, что теперь тебе ещё и Боборыкина нужно читать. И искать Успенского, Николая, а не Глеба, искать Дорошевича, перечитывать Куприна… «Признательные показания» обладают всеми качествами, необходимыми для достаточно широкого читательского успеха. Автор сделал всё, что мог. Теперь всё дело в вульгарном пиаре, подаче, раскрутке…
Сергей Чупринин обладает чрезвычайно редким человеческим качеством – он искренне ценит людей. Об этом свидетельствуют все его книги. Вряд ли кто ещё положил столько труда на то, чтобы никто из литераторов не был забыт, чтобы был отмечен даже проблеск таланта, чтобы отклеить прилипшие ярлыки, пересмотреть несправедливые оценки, сохранить для потомков современную нам литературу в её полноте. Несколько лет назад, когда Сергей Чупринин представлял публике двухтомник «Новая Россия: мир литературы», содержавший сведения о пятнадцати тысячах современных русских писателей, ему неоднократно задавался вопрос о том, зачем вообще понадобилось составлять столь подробный перечень всех действующих лиц актуальной литературы и при этом ставить в один ряд совершенно разновеликие фигуры. Сергей Иванович отвечал в том духе, что провинциальная старушка, выпустившая скромный сборник из нескольких стихотворений, должна в какой-то счастливый момент почувствовать себя в одном цехе с Анной Ахматовой. Маститые поэты горячо возражали. Но на самом деле, конечно, должна. Хотя бы потому, что это продлит ей самой жизнь, а её стихам даст шанс быть перечитанными и переосмысленными.
Александр Курбатов
Sapega rarities.
Презентация книги Михаила Сапего «Сапега. Одиножды один»
http://kultinfo.ru/novosti/1149/
В своё время на магнитофонных катушках, потом на кассетах ходила запись с названием «The Beatles rarities», куда входили всякие битлзовские редкости и уникальности: записи «не своих» песен, записи, не вошедшие в альбомы, варианты песен, исполненные на немецком языке, и т. п.
Так вот. Презентацию книги Михаила Сапего «Сапега. Одиножды один» 27 сентября в «Билингве» можно с полным правом назвать вечером редкостей и даже уникальностей.
Редкость номер один: это первая презентация книги Михаила Сапего в Москве. Презентации книг издательства «Красный матрос» до этого происходили, и неоднократно, а вот свои собственные книги Михаил Сапего до этого не презентовал. Из скромности, наверное. А книг таких набралось уже много – появлялись они в среднем раз в три-четыре года.
Кстати, из названий предыдущих книг стихов Михаила Сапего можно составить две линии: первая использует числительные – «36», «Сорок четыре», вторая – имя собственное – «Сапега Сапегой», «Sapega Vulgaris». В названии новой книги эти линии почти сходятся: «один» – это, конечно, числительное, но в некотором роде числительное собственное, а «Сапега. Одиножды один» интонационно звучит как фамилия, имя и отчество.
Как сказано в авторском послесловии: «Очередной (шестой по счёту) сборник “Сапега. Одиножды один” включает в себя 59 миниатюр. Для сравнения, в предыдущем – “Sapega Vulgaris” (трёхлетней давности) было на одно трёхстишие меньше – 58. Прогресс, однако. А если серьёзно, то сам факт выхода этой книжки, с учётом произошедших в жизни автора необратимых (по большей части) перемен, есть событие очень важное и на какое-то время отодвигающее вопрос о том, жив ли Сапега как поэтическая единица или же уже… Вот».
Редкость номер два выяснилась вскоре после начала презентации: Михаил Сапего сказал, что не будет читать ничего из новой книги, просто не представляет, как это делать – читать трёхстишия подряд вслух. И действительно, каждое из трёхстиший, хоть и описывает совсем краткий момент, но как-то так его останавливает, что этот момент вбирает в себя существенный промежуток жизни. Поэтому прочитать все трёхстишия подряд – всё равно что просмотреть несколько лет жизни за несколько минут в ускоренной перемотке.
Так что книгу пусть каждый читает сам, не торопясь, про себя, беззвучно.
А на презентации Михаил Сапего рассказывал о других книгах «Красного матроса».
Последние несколько лет главное направление деятельности издательства – археологическое. По-настоящему археологическое – поиск текстов-памятников, непосредственных, художественно не обработанных свидетельств реальной жизни первой половины XX века. Это и личные дневники-жизнеописания, и рукописные альбомы-песенники, и газетные заметки, и чудом сохранившиеся малотиражные книжки. Пока ещё их можно найти – в библиотеках, в семейных архивах, на блошиных рынках, на помойках. От этих текстов исходит ощущение подлинности, недостижимое для произведений художественной литературы, – как будто держишь в руках реальный материальный предмет из тех времён.
И «Красный матрос» возвращает эти тексты к жизни, не даёт им исчезнуть окончательно.
В этом смысле, наверное, текстам повезло больше, чем предметам быта и другим материальным археологическим находкам: керамический сосуд или обломок скульптуры нельзя размножить без утраты подлинности, а текст – можно.
Более того, изданные «Красным матросом», эти тексты вбирают в себя нечто дополнительное. О каждой из книг Михаил Сапего может долго и подробно рассказывать: обстоятельства находки, поиски следов автора, какие-то моменты и зацепки, которые приводят потом к новым книгам.
Некоторые книги в переиздании «Красного матроса» стали настоящими хитами – например, книга 1924 года «Дети-дошкольники о Ленине» или «Сборник задач противоалкогольного содержания» 1914 года.
Отдельные задачи из сборника Михаил Сапего зачитывал на вечере и предлагал присутствующим решить. Это было под конец вечера.
А до этого Михаил Сапего читал выборочно тексты песен из новой книжной серии «Обрыдалово». (Серия названа в честь поэмы Владимира Нескажу, пока вышло четыре книги: «Восемь горемычных песен», «В лесу распускалась берёза…», «Клавдины песни» и «Недалеко от Невского проспекта…», первая книга – сборник, три последующие – печатные версии рукописных песенников 1920-1930-х годов с сохранением исходной орфографии.)
Песни разные, некоторые неожиданные (как, например, про спасение экспедиции Нобиле), некоторые смешные, а так всё больше грустные:
Эта песенка начинается,Брызнет счастье из слов и речей.А кончается на несчастииДвух обиженных жизнью людей.Совсем уж без стихов Михаила Сапего на вечере не обошлось, но к собственным стихам он тоже подошёл с позиций археологически-исследовательских – рассказал о долговременной истории создания стихотворений про «ворсинки и катышки» и про «бумазейный суспензорий». Оба стихотворения произошли от ритмичных и шероховатых словосочетаний, которые как-то засели в голове и не успокоились, напоминали о себе, пока вокруг них не наросли стихотворения.
Хокку тоже прозвучало, но опять же в редкостном экзотическом варианте – в переводе на белорусский язык (из недавно вышедшей книги «Мша Сапега. Рознае», перевод на белорусский Миколы Николаева).
вось ужо дождж дык ужо дождж!i Сапега —прамок дык прамок!..Оригинал:
вот уж дождь так уж дождь!и Сапега —промок так промок!Тут в переводе естественным, неспециальным образом возникло митьковское «дык», которого в оригинале не было: по-белорусски «так» так и будет – «дык».
Дополнение
Рассказ Михаила Сапего о трёхстишии Владимира Нескажу и о его воздействии на неподготовленного японского слушателя. Рассказ приводится в пересказе Владимира Сергеевича Нескажу с сохранением авторской орфографии и авторских элементов ненормативной лексики.
(фастаюсь)
Надысь разговаривал со знаменитым М. Сапегою. В ЦДХ дело было. Знаменитый М. Сапего рассказал такое: будучи ценителем и знатоком японских поэтических *** изяществ, посетил он мероприятие, где все эти *** изящества активно обсуждались. Пришли японские слависты, славянские японисты, пришёл консул Японии в Питере, и давай они там измышлять. Каким-то образом градус дискуссии сильно раскалился, заспорили не на шутку насчёт а можно ли по-русски передать то, сё, и прочее басё. Тут знаменитый М. Сапего понял, что как бы до международного мордобоя не дошло, на почве поэтических из *** яществ. И вышел и прочёл моё *** (чего уж там скрывать) трёх как бы стишие в японском вроде как стиле. Ну вы все знаете его. Про сад камней. И тут консул! Который славист, а также, само собой, японист, от смеха «зашотался» (с) и упал на половую поверхность! Засим атмосфера разрядилась, расцвели улыбки, цветы, сауны, воздушные шарики! Пошло братание, сестрание и прочее жизнерадство! Пальнула Аврора, пионеры сожгли алые галстуки, комсомольцы швыряли в инструкторов движения «Наши» значками, закрылось наконец Сколково *** КОРОЧЕ СТАЛО ***
Дополнение к дополнению
Собственно, само трёхстишие про сад камней:
В сад камней пришёл старый ЙосикиОдного, видит, нетуНу не ***Елена Пестерева
«Мой несносный ребёнок бумажный». «Пункт назначения».
Мария Маркова (Вологда). Презентация книги Марии Марковой «Соломинка»
http://kultinfo.ru/novosti/1143/
«Улица ОГИ» в Москве – прекрасное место, чтобы жители Петербурга послушали стихи вологодского поэта. «Воймега» – отличное издательство, чтобы выпустить в нём первый сборник стихов, не вспоминая о самиздатовских дебютах. Суббота – оптимальный день для поэтического вечера. Смущало меня только время, четыре пополудни, но оказалось, что лирические женские стихи в небольшой и полностью знакомой компании в полумраке «Улицы ОГИ» лучше всего звучат именно в это время суток. В субботу, 29 сентября, прошла презентация нового сборника вологодской поэтессы Марии Марковой «Соломинка», вышедшего в серии «Автограф» издательства «Воймега».
Стихи Марковой (это известно было и по предыдущим сборникам) отличает естественная разговорная речь, изящество метафоры, тонкий лиризм, доверительная интонация, бесконечная нежность к миру, мягкий, как сквозь облака, свет. В трогательности желания, чтобы «время остановилось» и чтобы «детское прозвище вслух бы моё назвали / дали с собою бы сладостей мне в кульке» («Слышишь ли ты тот же шум?.. Не смолкая…») Маркова узнаваема. Во всём приятии жизни, доверии к ней есть уже знакомый детский удивлённый взгляд: «Жизнь – бездарность, сводня, грамотейка – / я тебя, безделицу, люблю» («Кто ещё к нам сиротливо нежен?..»). Но сколь легка ни была бы эта мандельштамовская нота, сколь убедительно ни звенел бы в стихе блоковский щит, стихи, вошедшие в сборник, оставляют ощущение прощания с детством, с его сложностью, с его лёгкостью – и полное осознание его невозвратимости. Сборник этот, судя по всему, для автора рубежный – не зря мотив некой «черты», отделяющей детство от остальной жизни, в нём звучит и звучит: «Всех нас детство слегка опалило, / подменило, к черте подвело» («Говоришь, говоришь, и впустую…»), «О, этот возраст! Ты ещё дошкольник, / тебя подводят к самой кромке леса, / потом толкают – и бегут назад» («Ещё бы вышло что-нибудь из жизни…»).
Сборник «Соломинка» получился тоненький, как и должно быть, если исходить из названия, и за сорок минут выступления был прочитан почти целиком. Если поэт относится к звуку бережно и чутко – «только неловкость без слов», «Твои сосны сияют на вырост, / нам на вырост, на вынос, на рай», «рукав из самого земного / полотна полынного, льняного / отпевает целый день игла», – то в результате зал и впрямь наполняет музыка. Вот такая:
…ты так звучала! – плакать, содрогнувшись, бежать по травам, не угомонить сердцебиенья страха, и удушья впивается накинутая нить.(«О покинувшей меня музыке»)Или вот такая:Горячий белый воздух берётся за смычок.Но музыка – удушье, один сплошной обман – и дудочка пастушья, и скрипка, и орган.(«Воды на полстакана.»)Потому неудивительно, что после собственно презентации, сразу вслед за поздравлениями, знакомствами и автографами, разговор среди присутствующих сам собой свернул на премию «Московский счёт». Из девяти лет присуждения премии книги «Воймеги» получали её пять раз. Вероятность того, что малая премия (за первую книгу или за книгу молодого автора) достанется «Соломинке» действительно высока.
Дмитрий Черкашин
Мультилингвально в «Билингве».
Всемирный день переводчика – 2012
http://kultinfo.ru/novosti/1384/
Нередко, стоя у дверей этого заведения (или, как сказал один человек, учреждения культуры), я слышал: как пройти в «Белинго». Или «Белинга». В общем, как только не коверкали название славного клуба.
30 сентября такого произойти не могло. Люди, пришедшие в клуб «Билингва» на традиционный, уже пятый вечер, посвящённый Всемирному дню переводчика, знали и как называется место, и куда именно они идут. Иностранная речь в «первом поэтическом книжном магазине Москвы» звучит вообще-то нередко. Только за последний год выступали норвежцы, швейцарцы, немцы, испанцы и т. д. Плюс – ежемесячные вечера из цикла «Метаморфозы. Беседы о художественном переводе», куда приглашаются маститые переводчики с многочисленных иностранных языков на русский. Но день 30 сентября всё же особенный. Это и представление новых переводов, и знакомство с людьми, до того в творчестве на этом поле не замеченными. Да и просто профессиональный праздник тех людей, благодаря которым мы знаем, что и как происходит за пределами русского языка.
В 2012 году организаторы этих чтений пригласили и авторов, для которых художественный перевод является основной деятельностью (Алёша Прокопьев, Татьяна Стамова, Наталья Ванханен), и «многостаночников», совмещающих занятия переводом и много ещё какие занятия (Андрей Сен-Сеньков, Максим Амелин, Лев Оборин и др.). Впрочем, все участники вечера пишут и оригинальные стихи, в чём мы могли убедиться.
Радовал языковой разброс, мультикультурность в этот день была основной темой. Хотя качество отдельных текстов и детали некоторых выступлений вызвали лёгкое недоумение и даже смешки. Но это так, к слову. В целом же праздник удался, иначе не скажешь.
Елена Иванова-Верховская читала переводы из братьев-славян, сербов и болгар. Лев Оборин отдал должное полякам и – неожиданно – индийцам. Максим Амелин порадовал новыми переводами «Илиады», Елена Исаева знакомила гостей вечера с современной грузинской поэзией, Анна Золотарёва – с детскими стихами, написанными на иврите. Григорий Петухов представил авторизованный перевод «из себя». Что ж, не возбраняется.
Завершал праздник Андрей Сен-Сеньков, представивший подборки сербских поэтов Васко Попы и Ивана Лалича – в ближайшее время в издательстве «Айлурос» выйдут книги этих авторов.
Остаётся только пожелать «Билингве», чтобы эта добрая традиция не прекратилась и стихи на разных языках звучали в ней и впредь. Ежегодно. 30 сентября и не только.
Татьяна Стамова









