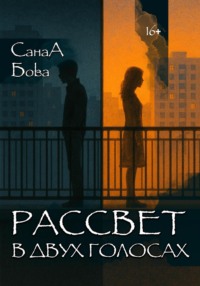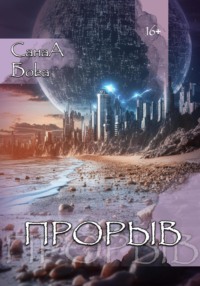Полная версия
Песнь нартов. Тени Золотого древа

СанаА Бова
Песнь нартов. Тени Золотого древа
ПРОЛОГ: "ПЕПЕЛ ПРОШЛОГО"
Ветер пел свою вечную песнь, скользя меж острых пиков Кавказских гор, словно невидимый гонец, разносящий вести о былом. Его голос, то низкий и гулкий, как рокот далёкого грома, то пронзительный, подобный крику ястреба, вплетал в себя отголоски древних времён – времён, когда земля ещё дрожала под поступью нартов, а небеса склонялись к их мольбам. Тогда горы были не просто камнем, а живыми стражами, чьи вершины венчали священные рощи, где шептались духи предков. Реки текли не только водой, но и памятью, унося в своих струях кровь героев, чьи подвиги некогда сияли ярче звёзд. Тогда Золотое Древо, сердце мира, стояло на виду у всех – его корни пронизывали недра, питая жизнь, а ветви, усыпанные листьями из чистого света, касались небес, где обитали боги.
Нарты, дети земли и неба, были первыми, кто услышал зов Древа. Их рождение было овеяно тайной: одни говорили, что они появились из искр, высеченных молотом Тхагаледжа, бога-кузнеца, чья кузница пылала в глубинах гор. Другие шептались, что их породила Псатха, госпожа вод, чьи слёзы, падая на камни, обращались в живую плоть. Были и те, кто верил, что нарты – плод любви между смертными и духами ветра, чьи голоса до сих пор звучат в ущельях. Их кожа была крепка, как горный гранит, а глаза горели, как угли в очаге, отражая внутренний огонь, что даровали им боги. Они не знали страха, ибо их сердца бились в ритме самой земли, и каждый шаг их был подобен удару барабана, зовущего к битве.
Эпоха нартов была золотой, но не безмятежной. Они строили крепости из камня, что пел под их руками, и возделывали землю, что сама расступалась перед их плугами. Их песни, полные силы и скорби, разносились ветром, и даже звери склоняли головы, заслышав мелодии, что рождались у костров. Но мир их не был един. Нарты делились на рода, и каждый гордился своей кровью: род Сосруко славился силой, род Шатаны – ловкостью, а род Бадыноко – мудростью. И всё же они объединялись перед лицом врага, ибо знали, что Золотое Древо, их священный страж, не потерпит раскола.
Древо стояло в сердце равнины Шхафит, окружённое кольцом камней, что сияли, как звёзды, упавшие на землю. Его ствол был золотым, словно выкованным из солнечного света, а листья шептались на ветру, рассказывая истории о начале времён. Говорили, что Древо было первым творением богов, посаженным в тот день, когда Тхагаледж ударил молотом по пустоте, и из искры родился мир. Его корни уходили так глубоко, что касались царства мёртвых, где правил Хабар, хранитель теней, а ветви пронзали облака, достигая чертогов Псатхи и её сестёр, духов дождя. Оно питало реки, что текли с гор, и леса, что шумели в долинах, и каждый, кто касался его коры, чувствовал биение жизни – чистой, неукротимой, вечной.
Но там, где свет сияет ярче всего, тьма ждёт своего часа. И имя этой тьмы было Саусрык. Он не родился, как нарты, из любви или силы – он возник в пустоте, что предшествовала свету, в том хаосе, где нет ни формы, ни звука. Черкесские старейшины называли его "чёрным всадником", ибо он являлся верхом на коне, чья грива была соткана из ночного мрака, а копыта оставляли следы, что не зарастали травой. Его глаза пылали багровым, как угли, что тлеют под пеплом, а голос был подобен треску ломающихся костей – низкий, зловещий, проникающий в самую душу. Саусрык не искал власти над миром, как иные демоны; он жаждал уничтожить саму суть бытия, вырвать корни жизни и оставить лишь пустыню, где не звучит ни одна песнь.
С ним пришли его дети – твари, что не имели имени, ибо ни один язык не мог их описать. Их тела были сотканы из теней, что шевелились, как живые, а когти их, чёрные, как обсидиан, резали камень, словно масло. Некоторые носили крылья из дыма, что клубился над полем боя, другие ползли, подобно змеям, оставляя за собой ядовитый след. Они не знали страха, не знали боли – лишь голод, что гнал их вперёд, к свету Золотого Древа.
Нарты встретили врага на равнине Шхафит, где земля ещё хранила тепло первых дней творения. День той битвы стал последним днём света, ибо солнце скрылось за тучами, а небо окрасилось багровым, словно предчувствуя кровь. Во главе стоял Сосруко, величайший из героев, чья броня была выкована из звёздного железа, что Тхагаледж добыл из упавших небесных тел. Его копьё, длинное и острое, пело песнь смерти, пронзая врагов, а волосы пылали, как факел, освещая путь в ночи. Рядом с ним билась Шатана, дочь ветра, чьи стрелы, вырезанные из ветвей священного ясеня, находили цель даже в кромешной тьме. Бадыноко, старейшина нартов, стоял позади, его посох сиял мягким светом, исцеляя раненых и отгоняя тени.
Саусрык не спешил вступать в бой. Он стоял на вершине холма, окружённый своими легионами, и смотрел, как его твари рвут плоть нартов. Его смех, подобный раскатам грома, разносился над равниной, и в нём не было радости – лишь холодное презрение. Легионы тьмы хлынули вперёд, подобно чёрной реке, что смывает всё на своём пути. Когти демонов оставляли шрамы на доспехах, а вой их заглушал крики умирающих. Один за другим падали нарты, их тела усеивали землю, как опавшие листья, а кровь текла ручьями, пропитывая траву и камни.
Сосруко бросился вперёд, его копьё сверкало, как молния. Он сразил десятки тварей, но их место занимали новые, и силы его таяли. Шатана, стоя на коленях, натягивала тетиву, и каждая стрела уносила жизнь врага, но лук её дрожал в руках, а дыхание становилось тяжёлым. Бадыноко воззвал к богам, подняв посох к небу, и тучи расступились, открывая звёзды. Но звёзды молчали, и надежда угасала в глазах воинов.
Тогда небеса дрогнули. Тхагаледж, чья кузница пылала в сердце горы Казбек, спустился на землю. Его поступь была тяжела, как удар молота о наковальню, а глаза горели, как раскалённый металл. В руках он держал молот, выкованный из сердца упавшей звезды, и броня его сияла, отражая свет Золотого Древа. За ним следовала Псатха, чьи волосы текли, как река, а платье было соткано из капель дождя. Её голос, мягкий и печальный, звучал над полем, исцеляя раненых и давая им силы подняться.
– Саусрык! – прогремел Тхагаледж, и даже тьма дрогнула от его мощи. – Ты не возьмёшь этот мир, пока я стою на страже!
Чёрный всадник лишь рассмеялся, но в смехе его промелькнула тень страха. Он бросился на бога, и их битва была подобна столкновению двух бурь. Молот Тхагаледжа обрушивался на Саусрыка, каждый удар высекал молнии, что разрывали небо. Псатха плела заклятья из воды и ветра, связывая тварей, но тьма была упорна – она текла, избегая смертельных ран, и когти её оставляли следы даже на божественной броне.
Сосруко, истекая кровью, поднялся с земли. Его копьё было сломано, но дух его горел ярче, чем когда-либо. Он бросился к Золотому Древу, чьи ветви сияли в центре равнины, и коснулся его коры. В тот миг сила Древа влилась в него, исцеляя раны и наполняя тело светом. Он стал подобен факелу, пылающему в ночи, и с криком, что разнёсся до самых дальних вершин, пронзил Саусрыка остатками своего копья.
Тьма взревела, и земля содрогнулась. Саусрык пал, его тело рассыпалось в прах, унесённый ветром, а легионы его рассеялись, словно дым. Но победа не принесла радости. Сосруко, поддерживаемый Шатаной, смотрел на поле, усеянное телами. Золотое Древо, чья сила была истощена, начало угасать, его свет меркнул, как закатное солнце. Тхагаледж опустился на колени перед ним, а Псатха пролила слёзы, что стали новым ручьём, текущим с гор.
– Мы победили, – сказал Сосруко, но голос его дрожал. – Почему же сердце моё полно скорби?
– Потому что победа требует жертвы, – ответил Тхагаледж. – Древо не может сиять в мире, где тьма оставила свой след. Оно уйдёт в тень, чтобы исцелиться, и с ним уйдёт наша эпоха.
Шатана подняла взгляд к небу.
– А что станет с нами?
Тхагаледж молчал, а затем молот его опустился на землю, и горы сомкнулись над Древом, скрывая его от глаз.
– Вы будете жить, как смертные. Ваши дети забудут нас, но в песнях ветра сохранится память. И когда тьма вернётся, найдётся тот, кто зажжёт свет вновь.
Боги ушли, и нарты разошлись по горам. Прошли века, и мир забыл их имена. Но в глубинах земли Саусрык шевельнулся, его глаза открылись во мраке, и шёпот его разнёсся по пустоте. Земля дрогнула, и новая эпоха приближалась.
Глава 1: "Дочь Схауа"
Солнце вставало над горами медленно, словно нехотя, разливая бледный свет по острым вершинам, что высились, как клыки древнего зверя. Тени ещё цеплялись за ущелья, но первые лучи уже касались крыш деревни Тхач, сложенных из камня и соломы, что пахла сухой травой и дымом очагов. Ветер, вечный спутник этих земель, гудел в ветвях старых дубов, что окружали селение, и нёс с собой запах снега с далёких пиков. Здесь, в сердце Кавказа, где каждый камень хранил память о прошлом, жила Амира из рода Схауа – девушка с глазами цвета горного мёда и сердцем, что билось в такт песням ветра.
Ей было семнадцать зим, и в деревне её знали как дочь Хабиба Схауа, некогда гордого воина, чей клинок сверкал в битвах с пришельцами с равнин. Но те дни давно канули в Лету, и Хабиб, чья спина ныне согнулась под тяжестью лет, сидел у очага, рассказывая истории о прошлом, что казались детям не более чем сказками. Род Схауа, когда-то могучий, как буря, что ломает сосны, теперь терял влияние. Соседи, кланы Тлисов и Хатукай, шептались за их спинами, называя Схауа слабыми, а их земли – лёгкой добычей. Амира чувствовала этот стыд, как занозу в сердце, но молчала, ибо так велел Хабзэ – кодекс чести, что связывал её народ крепче любой клятвы.
Утро началось, как и сотни других. Амира поднялась с лежанки, устланной овечьими шкурами, и натянула на себя рубаху из грубого льна, поверх которой накинула шерстяной чёркесский чепкен, вышитый серебряными нитями. Её волосы, тёмные, как ночь, и длинные, как река Пшиш, она собрала в тугую косу, что падала на спину, словно змея, готовая ужалить. В углу комнаты тлел очаг, и дым поднимался к потолку, где висели пучки сушёных трав – работа её матери, Зарины, что умерла пять лет назад, оставив Амиру с отцом и младшим братом Асланом.
– Амира, – голос Хабиба, хриплый и усталый, донёсся из-за занавески, что отделяла его угол от остальной комнаты. – Огонь гаснет. Подбрось дров.
Она кивнула, хотя отец её не видел, и шагнула к очагу. Дрова, сложенные у стены, были сырыми – вчерашний дождь пробрался даже сюда, под крышу. Амира бросила несколько поленьев в огонь, и пламя, зашипев, принялось их пожирать, выпуская клубы серого дыма. Она кашлянула, отмахнувшись от едкого запаха, и посмотрела на отца. Хабиб сидел, завернувшись в старый плащ, его лицо, изрезанное морщинами, было похоже на карту давно забытых дорог.
– Сегодня совет, – сказал он, не поднимая глаз. – Тлисы опять требуют долю пастбищ у реки. Говорят, их стада голодают.
– Пусть пасут своих овец на равнинах, – резко ответила Амира, её голос звенел, как сталь. – Эти земли наши по праву крови. Ты сам сражался за них.
Хабиб вздохнул, и в этом звуке было столько усталости, что Амире захотелось кричать.
– Времена меняются, дочь. Мы не те, что прежде. Если откажем, Тлисы придут с клинками, а у нас едва хватит воинов, чтобы держать оборону.
– Тогда я пойду на совет, – сказала она, выпрямляясь. – Пусть услышат, что Схауа ещё живы.
Отец покачал головой, но в глазах его мелькнула тень былой гордости.
– Ты слишком молода, Амира. И слишком упряма. Это дело мужчин.
– Мужчины молчат, пока наш род гниёт, – бросила она и, не дожидаясь ответа, шагнула к двери. Её сапоги, подбитые кожей, застучали по каменному полу, а сердце колотилось от гнева и чего-то ещё – предчувствия, что витало в воздухе, как запах грозы.
Улицы Тхача были узкими и извилистыми, дома лепились друг к другу, словно боялись отпустить тепло. Люди уже проснулись: женщины несли кувшины к роднику, что бил из скалы у края деревни, а мужчины, закутанные в бурки, гнали овец на верхние пастбища. Амира прошла мимо старой Хадижат, что сидела у порога, плетя корзину из ивовых прутьев. Старуха подняла мутные глаза и пробормотала:
– Ветер неспокоен, девочка. Слышишь, как он воет? Боги шепчутся.
Амира кивнула, хотя слова старухи казались ей пустыми. Хадижат всегда говорила загадками, и деревня давно привыкла к её странностям. Но сегодня что-то в её голосе заставило Амиру замедлить шаг. Она посмотрела на небо – серое, тяжёлое, с клочьями облаков, что цеплялись за вершины. Ветер и правда был громче обычного, его вой эхом отдавался в ущелье, словно кто-то звал её по имени.
Она направилась к священному камню, что стоял на краю деревни. Это был высокий валун, покрытый мхом и вырезанными рунами, чьё значение давно забыли. Говорили, что здесь, у камня, нарты когда-то приносили дары богам, прося защиты и силы. Амира не верила в старые сказки, но любила это место – здесь она могла остаться наедине с собой, вдали от шёпота деревни и усталых глаз отца.
Она опустилась на колени перед камнем, её пальцы коснулись холодной поверхности. Руны под её ладонью казались живыми, пульсирующими, как вены под кожей. Амира закрыла глаза, и ветер вдруг усилился, налетев столь яростно, что её коса затрепетала, как знамя. В его гуле она услышала голос – не слова, а мелодию, древнюю и печальную, что звала её куда-то вдаль, за горы, где небо сливалось с землёй.
– Кто ты? – прошептала она, но ответа не было. Лишь эхо, что растворилось в шуме листвы.
Она открыла глаза, и мир вокруг неё замер. Камень, деревья, даже ветер – всё стало неподвижным, словно время остановилось. А затем она увидела его: свет, золотой и мягкий, что поднимался из земли у подножия камня. Он был слабым, как отблеск угасающего костра, но Амира почувствовала тепло, что исходило от него, и что-то ещё – силу, древнюю и могучую, что текла в её венах, как кровь.
– Амира! – резкий крик разорвал тишину, и видение исчезло. Она обернулась и увидела Аслана, своего брата, что бежал к ней, спотыкаясь на камнях. Ему было двенадцать, но он выглядел младше – худой, с растрёпанными волосами и глазами, полными тревоги.
– Что случилось? – спросила она, поднимаясь.
– Отец зовёт. Тлисы пришли раньше совета. Они у дома, и их много.
Амира стиснула зубы. Её рука невольно легла на нож, что висел у пояса – подарок отца, выкованный ещё в дни его славы. Она кивнула Аслану и быстрым шагом направилась обратно в деревню, чувствуя, как ветер толкает её в спину, словно подгоняя.
Когда она добралась до дома, двор был полон людей. Мужчины в чёрных чепкенах, с кинжалами у поясов, стояли полукругом перед Хабибом, что опирался на посох. Их предводитель, Казим из рода Тлисов, был высок и широкоплеч, с лицом, изрезанным шрамами, и взглядом, что мог пробить камень. Его голос, низкий и властный, разнёсся над двором:
– Хабиб Схауа, ты знаешь, зачем мы здесь. Ваши пастбища у реки – наша земля по праву силы. Отдайте их, или мы возьмём их сами.
Хабиб выпрямился, и в его глазах мелькнул отблеск былого огня.
– Эти земли принадлежат Схауа с тех времён, когда твои предки ещё пасли коз на равнинах, Казим. Уходи, пока я не забыл о гостеприимстве.
Толпа зашумела, и Амира шагнула вперёд, не обращая внимания на предостерегающий взгляд отца.
– Если вам нужна земля, – сказала она, её голос звенел, как сталь, – докажите своё право в честном бою. Или вы, Тлисы, забыли Хабзэ?
Казим повернулся к ней, его губы искривились в усмешке.
– Девочка, тебе место у очага, а не среди воинов. Ступай, пока я не научил тебя уважению.
Амира сжала рукоять ножа, но Хабиб схватил её за руку.
– Молчи, – прошипел он. – Ты погубишь нас всех.
Но было поздно. Казим махнул рукой, и его люди двинулись вперёд, их клинки сверкнули в утреннем свете. Амира вырвалась из хватки отца и бросилась навстречу врагу, её сердце билось в ритме той мелодии, что она слышала у камня. И в этот миг ветер взревел, как зверь, а свет, что она видела в видении, вспыхнул в её груди, яркий и неукротимый.
В тот миг, когда клинки Тлисов сверкнули в утреннем свете, время для Амиры словно замедлилось. Она видела, как Казим шагнул вперёд, его кинжал, длинный и изогнутый, как коготь ястреба, нацелился на Хабиба. Видела, как мужчины её рода – те немногие, что ещё держали оружие, – бросились навстречу врагу, их лица были искажены гневом и страхом. Аслан, её младший брат, прижался к стене дома, его глаза, огромные и полные ужаса, следили за каждым движением. Но громче всех этих звуков, громче криков и звона стали, в ушах Амиры звучал ветер – тот самый, что шептал ей у священного камня, теперь он ревел, как буря, что рвёт деревья с корнем.
Она не думала. Её тело двигалось само, словно кто-то другой – древний, сильный – взял её в свои руки. Нож выскользнул из ножен с шипением, и Амира бросилась на Казима, перехватывая его удар в воздухе. Сталь встретилась со сталью, и искры, яркие, как звёзды, посыпались на землю. Казим отшатнулся, его усмешка сменилась удивлением, а затем яростью.
– Докажи своё право! – крикнула Амира, её голос перекрыл шум схватки. Она крутанулась, уходя от второго удара, и её клинок чиркнул по рукаву Казима, оставив тонкий разрез на ткани. Кровь не выступила, но сам факт, что девчонка, которую он считал ничтожной, коснулась его, заставил предводителя Тлисов зарычать.
– Ты пожалеешь, щенок! – прорычал он и бросился на неё с новой силой. Его кинжал мелькал в воздухе, каждый выпад был точен и быстр, как укус змеи. Амира уклонялась, её ноги скользили по земле, покрытой утренней росой, но она чувствовала, как силы тают. Казим был воином, закалённым в десятках битв, а она – лишь дочерью рода, что давно утратил славу.
Вокруг кипела схватка. Люди Схауа, хоть и уступали числом, дрались яростно. Старик Муса, чья борода была седой, как снег на вершинах, размахивал топором, что выковал ещё его отец, и кричал что-то о чести предков. Молодой Заур, чья сестра когда-то просила руки Амиры для своего брата, отбивался от двоих Тлисов, его копьё ломалось под их ударами. Но Тлисы наступали, их клинки находили цель, и кровь уже текла по камням двора, смешиваясь с грязью.
Амира споткнулась, её сапог зацепился за булыжник, и Казим воспользовался моментом. Его кинжал устремился к её груди, и она поняла, что не успеет увернуться. Но в этот миг ветер ударил снова – не снаружи, а внутри неё. Она почувствовала, как тепло, что родилось у священного камня, вспыхнуло в её груди, яркое и неукротимое. Её глаза загорелись золотым светом, и она подняла руку – не нож, а пустую ладонь, – словно могла остановить сталь голой кожей.
И она остановила. Кинжал Казима замер в дюйме от её сердца, словно наткнулся на невидимую стену. Его рука дрожала, лицо исказилось от усилия, но он не мог двинуться дальше. Амира смотрела на него, и в её взгляде было что-то большее, чем гнев – сила, древняя, как сами горы. Ветер вокруг неё взвыл, срывая листья с деревьев и бросая их в лица Тлисов, как град.
– Что за колдовство?! – выкрикнул Казим, отступая назад. Его люди замерли, их клинки опустились, а глаза округлились от страха. Даже воины Схауа остановились, глядя на Амиру, словно видели её впервые.
Она не ответила. Её разум был полон голосов – неясных, переплетающихся, как нити в ковре. Они пели о прошлом, о Золотом Древе, о нартах, чья кровь текла в её жилах. Она не понимала слов, но чувствовала их силу, что поднималась из глубин её существа. Её рука всё ещё была вытянута, и свет, что исходил от неё, становился ярче, озаряя двор, как солнце в полдень.
– Амира! – крик Хабиба вырвал её из транса. Она опустила руку, и свет угас, оставив лишь слабое сияние в её глазах. Казим, воспользовавшись моментом, бросился на неё снова, но на этот раз его остановил не ветер, а Муса. Старик врезался в предводителя Тлисов плечом, и оба рухнули на землю, катаясь в грязи и выкрикивая проклятья.
Бой возобновился, но теперь Тлисы дрогнули. То, что они видели, – свет, что остановил клинок, – было за гранью их понимания. Они отступали, шаг за шагом, пока Казим не поднялся, отпихнув Мусу, и не рявкнул:
– Уходим! Но это не конец, Схауа! Мы вернёмся, и ваша девчонка-ведьма не спасёт вас!
Тлисы растворились в утреннем тумане, что стелился по ущелью, оставив за собой лишь раненых и запах крови. Амира стояла, тяжело дыша, её нож всё ещё был в руке, но пальцы дрожали. Она посмотрела на отца, ожидая гнева или страха, но Хабиб молчал, его взгляд был тяжёлым, как камень.
– Что это было? – наконец спросил он, и в голосе его звучала не только тревога, но и что-то похожее на благоговение.
– Я… не знаю, – ответила Амира, и это была правда. Она чувствовала себя опустошённой, словно сила, что вспыхнула в ней, забрала часть её самой. Аслан подбежал к ней, его лицо было бледным, но глаза сияли.
– Ты была как нарт из сказок! – воскликнул он. – Как Сосруко, когда он сражался с великанами!
– Это не сказки, мальчик, – раздался хриплый голос за их спинами. Амира обернулась и увидела Хамиду, старую ведунью, что жила на краю деревни. Её сгорбленная фигура, закутанная в чёрный платок, казалась тенью, но глаза, острые и ясные, смотрели прямо на Амиру. В руках она держала посох, вырезанный из ясеня и украшенный рунами, что напоминали те, что были на священном камне.
– Хамида, – Хабиб шагнул к ней, его голос дрогнул. – Ты видела?
– Видела, – ответила старуха, её губы растянулись в беззубой улыбке. – И слышала. Ветер давно шептал о ней, но я не верила, пока не увидела своими глазами. Дочь Схауа, в тебе кровь нартов, и не простая – кровь тех, кто касался Золотого Древа.
Амира нахмурилась.
– Золотое Древо? Это просто легенда. Древо, что питало мир, пока боги не скрыли его от нас.
– Легенда? – Хамида рассмеялась, и смех её был похож на треск сухих веток. – А что ты видела у камня? Что остановило клинок Казима? Это не твоя сила, девочка. Это его сила, что течёт через тебя.
Хабиб побледнел.
– Ты хочешь сказать, она избранная? Как в пророчествах?
– Пророчествах, сказках, песнях – называй как хочешь, – отрезала Хамида. – Но я скажу тебе одно: тьма шевелится. Я чую её в ветре, в земле под ногами. И если она проснётся, только свет Древа сможет её остановить. А ты, Амира, – ключ.
Амира отступила, её разум отказывался принимать слова старухи. Она была дочерью рода, что едва держался на плаву, а не героиней из песен. Но тепло в её груди, голоса, что пели в её голове, – всё это было реальным, слишком реальным, чтобы отрицать.
– Я не хочу быть ключом, – сказала она тихо. – Я хочу, чтобы Схауа снова стали сильными. Чтобы Тлисы и Хатукай боялись нас, а не мы их.
– Тогда тебе придётся стать больше, чем ты есть, – ответила Хамида. – Золотое Древо зовёт тебя, девочка. И если ты не ответишь, тьма придёт за всеми нами.
Ночь опустилась на Тхач, укрыв деревню холодным покрывалом. Амира сидела у очага, глядя в огонь, что плясал на углях. Хабиб молчал, его руки лежали на коленях, а Аслан спал, свернувшись под шкурой. Хамида ушла, оставив за собой лишь слова, что жгли Амиру, как раскалённый уголь.
Она не спала. Её мысли кружились, как листья на ветру, возвращаясь к тому моменту, когда свет вспыхнул в её груди. Она вспоминала сказки, что рассказывал отец: о нартах, что сражались с демонами, о Древе, что было сердцем мира. И о Саусрыке, чёрном всаднике, что был побеждён, но не уничтожен.
Когда первые звёзды зажглись на небе, она услышала его снова – ветер, что звал её. Он проникал сквозь щели в стенах, шептал её имя, и в его голосе была тоска, что разрывала сердце. Амира встала, накинула плащ и шагнула к двери.
– Куда ты? – голос Хабиба остановил её.
– Я должна понять, – сказала она, не оборачиваясь. – Если это правда, если я могу спасти нас… я должна знать.
Он не ответил, но она услышала его вздох – тяжёлый, полный боли. Амира открыла дверь и вышла в ночь, чувствуя, как ветер обнимает её, как старый друг. Она знала, куда идти – к священному камню, где всё началось.
Ночь укутала Тхач чёрным покрывалом, усыпанным звёздами, что мерцали, как глаза духов, наблюдающих за миром с высоты. Луна, тонкая, как серп жнеца, висела над вершинами, отбрасывая серебряный свет на тропу, что вела к священному камню. Амира шла быстро, её шаги были почти бесшумны на мягкой земле, укрытой опавшими листьями и иглами сосен. Плащ, что она накинула на плечи, развевался за спиной, словно крылья ястреба, а ветер, её вечный спутник, гудел в ушах, то усиливаясь, то затихая, как дыхание спящего великана. Он звал её, и с каждым шагом зов становился громче, настойчивее, проникая в самую глубину её души.
Деревня осталась позади, её огни – слабые отблески очагов – исчезли за поворотом ущелья. Здесь, на краю Тхача, начинался другой мир: дикий, древний, полный теней и шёпота. Дубы, что окружали священный камень, стояли, как стражи, их ветви сплетались над тропой, образуя свод, сквозь который едва пробивался лунный свет. Амира чувствовала их присутствие – не просто деревья, а свидетели времён, когда нарты ходили по этой земле, когда их голоса звучали громче грома, а клинки сверкали ярче молний. Она не верила в сказки, но здесь, в этой тишине, пропитанной чем-то большим, чем просто ночь, сомнения начинали отступать.