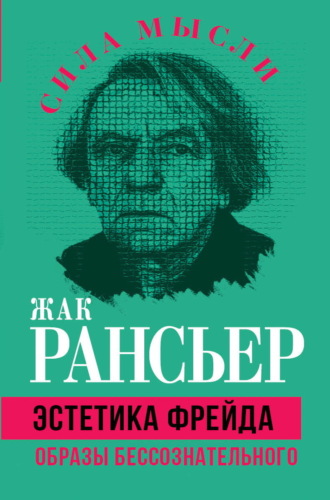
Полная версия
Эстетика Фрейда. Образы бессознательного
Художник Энди Уорхол.
Подобной одиссее противостоит обратная модель, возвращающая от прекрасного эстетического и рационального обличья к темному, пафическому дну. Это то движение, которое отворачивается у Шопенгауэра от обличий и прекрасного причинно-следственного распорядка мира представлений-изображений к темному, подземному, лишенному смысла миру вещей в себе – миру обнаженной, безрассудной воли к жизни, парадоксально названной «волей», поскольку ее сущность состоит как раз в том, чтобы ничего не желать, отказаться от модели выбора целей.
* * *Исторически рождение психоанализа вписывается в русло этого попятного движения, философскими героями которого были Шопенгауэр и молодой Ницше; оно царило в той литературе, каковая от Золя и до Мопассана, Ибсена и Стриндберга погружается в чистое бессмыслие неприкрашенной жизни или встречается с силами тьмы. Но речь идет не просто о влиянии идей и тем того времени, речь, в сущности, идет об одной из позиций в рамках той системы возможностей, которую определяет некоторое представление о мысли и некоторое представление о письме. Ибо названная нами эстетической безмолвная революция открывает пространство разработки конкретного представления о мысли и соответствующего представления о письме.
Это представление о мысли покоится на фундаментальном утверждении: имеется и мысль, которая не мыслит, мысль, задействованная не только в чужеродной стихии немыслия, но и в самой форме немыслия. Наоборот, в мысли обитает и придает ей специфическую силу нечто от немыслия. Это немыслие – не только форма отсутствия мысли, оно является действенным. присутствием ее противоположности.
Итак, имеет место – как с одной, так и с другой точки зрения – тождественность мысли и немыслия, и эта тождественность обладает некоей специфической силой. Такому представлению о мысли соответствует и определенное представление о письме. Под письмом понимается не только одна из форм проявления речи. Под письмом понимается некоторое представление о речи и о присущей ей силе. У Платона, как известно, письмо – не просто материальность записанного на материальной подложке знака, а специфический статус речи. Оно для него – немой логос, речь, которая не может ни сказать по- другому то, что она говорит, ни перестать говорить: ни отдать отчет в том, что она изрекает, ни очертить круг тех, к кому ей подобает или не подобает адресоваться.
Этой одновременно и немой, и болтливой речи противостоит речь в действии, речь, ведомая требующим передачи значением и требующим обеспечения воздействием. У Платона это речь наставника, который умеет одновременно и разъяснить свою речь, и ее придержать, изъять у профанов и заронить в душу тех, для кого она сможет принести плоды. В классическом изобразительном строе подобная «живая речь» отождествляется с великой, действенной речью – живой речью оратора, которая волнует и убеждает, наставляет и увлекает души и тела. Это также и задуманная по ее модели речь трагического героя, который до конца следует своим желаниям и страстям.
Такой живой речи, нормировавшей изобразительный строй, эстетическая революция противопоставляет соответствующий ей самой способ речи, противоречивый способ речи, которая одновременно говорит и молчит, знает и не знает, что именно говорит.
Итак, она противопоставляет ей письмо. Но делает это сообразно двум великим фигурам, соответствующим двум противоположным формам отношения между мыслью и немыслием. И полярность двух этих фигур обеспечивает пространством одну и ту же область, вотчину литературной речи как речи симптоматической.
В первом смысле немое письмо – та речь, которую сами по себе ведут немые вещи. Это сила означивания, записанная прямо на их телах и подытоженная словами Новалиса, поэта-минералога, «все говорит». Все есть след, остаток или окаменелость. Любая чувственная форма, начиная с камня или ракушки, говоряща. Каждая из них несет записанными в слоях и извивах следы своей истории и знаки своего предназначения. Литературное письмо предстает тогда расшифровкой и переписыванием надписанных на вещах исторических знаков.
Именно это новое представление о письме вкратце излагает в хвалебных тонах в начале «Шагреневой кожи» Бальзак, когда на ключевых страницах описывает антикварный магазин в качестве эмблемы новой мифологии, фантастики, порождаемой единственно накоплением остатков потребления.
Великим поэтом новых времен является отнюдь не Байрон, очеркист душевных смут, а Кювье, геолог, натуралист, который воссоздает обитателей животного мира по одной кости, а леса – на основе окаменевших отпечатков. С ним определяется новое представление о художнике. Именно художник странствует по лабиринтам или подполью социального мира. Он собирает следы пережитого и переписывает иероглифы, изображаемые самой конфигурацией темных или заурядных вещей. Он возвращает незначительным деталям прозы мира их двойную, поэтическую и знаковую силу.
В топографии места, в облике фасада, в покрое и износе костюма, в хаосе выставленных товаров и сваленного в кучу мусора он распознает элементы некой мифологии. А в фигурах этой мифологии позволяет распознать подлинную историю общества, времени, коллектива; он позволяет предугадать судьбу личности и народа. «Все говорит»: это означает также, что упразднены иерархии изобразительного строя.
* * *Важнейшее фрейдовское правило – что не существует пренебрежимых «деталей», что, напротив, именно эти-то детали и направляют на путь истины – оказывается прямым продолжением эстетической революции. Нет благородных и низменных тем, как нет и существенных повествовательных и вспомогательных описательных эпизодов. Не найти такого эпизода, описания, фразы, которые не несли бы в себе мощь произведения. Ибо нет вещи, которая не несла бы в себе мощь языка. Все на равных, все одинаково важно, одинаково значимо. И поэтому повествователь «Дома кошки, играющей в мяч» помещает нас перед фасадом, чьи асимметричные отверстия, хаотические углубления и выступы образуют иероглифическую вязь, по которой можно расшифровать историю дома – засвидетельствованную ею историю общества – и судьбу обитающих в нем персонажей.
Или же романист «Отверженных» погружает нас в ту сточную канаву, что вещает обо всем, подобно философу-цинику, и привечает на равных все, что использует и отбрасывает цивилизация, ее маски и отличия, словно повседневную утварь. Новый поэт, поэт-геолог, поэт-археолог, в определенном смысле делает то же самое, что и ученый муж в «Толковании сновидений».
Он утверждает, что не существует ничего незначительного, что те прозаические детали, от которых отмахивается, в крайнем случае сводя их к простой физиологической рациональности, позитивистская мысль, являются знаками и в них зашифрована некая история. Но он также и выдвигает парадоксальное условие подобной герменевтики: чтобы банальное раскрыло свой секрет, оно сначала должно быть мифологизировано. Дом и сточная канава говорят, они несут на себе след истины, как то делают и сновидение или промахи – а также и марксистский товар, – постольку, поскольку они прежде того превращены в элементы некоей мифологии или фантасмагории.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.






