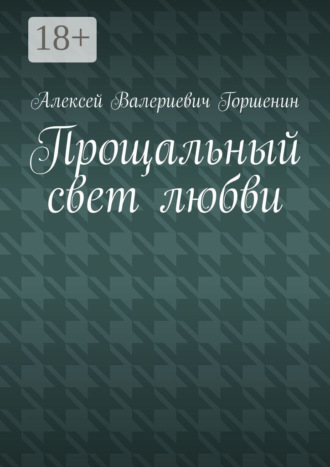
Полная версия
Прощальный свет любви
– Да уж, поистине – всё на продажу! – вздохнул я, вспомнив одноименный польский фильм Анджея Вайды глубоко советских времен. А дядя Миша только горестно покачал головой.
Больше ни тот ряженый самозванец, ни ему подобные мошенники на жизненном пути Железина не возникали. Однако и сам он любые мероприятия, куда приглашали ветеранов войны, с той поры полностью игнорировал. А день Победы отмечал дома в семейном кругу. С годами круг становился все уже. Родители умерли. Дети, взрослея, разъезжались, вили свои гнезда на стороне. В конце концов, в их просторном доме остались только он с Валентиной да Люба с мужем. С ними дядя Миша обычно и встречал «праздник со слезами на глазах».
Теперь вот и Валентина Кондратьевна ушла от него…
10
Потрясенный смертью жены, дядя Миша и дал слабину, пустившись во все тяжкие. Но пил, тем не менее, с оглядкой, опасаясь попадаться на глаза дочери – училка, все-таки, строгая. Прикладывался не в самом доме, а где-нибудь в бане или сарае. «На грудь» принимал обычно один. Иногда зазывал зятя. Но Люба была начеку, и всякие попытки мужа составить отцу компанию пресекала на корню.
Дядю Мишу я в сарайчике и нашел. Здесь было его любимое место. К стене напротив входа примыкал верстак с прикрученными к нему среднего размера тисками. А поверх верстака на полках и полочках, навесных шкафчиках можно было найти различный столярный и слесарный инструмент, гвозди, шурупы, болты, гайки, резиновые прокладки в консервных банках и пластмассовых коробочках, мотки проволоки, электрического шнура, и всякую другую всячину, необходимую в хозяйстве рукастого мужика. У верстака стояли две сколоченные хозяином табуретки. Здесь дядя Миша любил проводить свободное время, что-нибудь ремонтируя или мастеря для дома. Здесь же теперь и тоску самогонкой глушил.
Увидев меня, дядя Миша обрадовался. Закрывая за мной дверь сарая, он выглянул, на улицу, словно убеждаясь, что за мной нет «хвоста», и задвинул изнутри засов. Дядя Миша извлек откуда-то из темного угла под верстаком початую бутылку, достал из шкафчика огурцы, хлеб, огрызок колбасы, два граненых с ободком стакана.
– Скрываешься? – усмехнулся я, наблюдая за его приготовлениями.
– Приходится, – развел он руками. – Любка шагу ступить не дает, пасет.
– Переживает, – сказал я. – Шутка ли! Недавно мать похоронили, а теперь и ты, неровён час, кони двинешь, если и дальше так продолжать будешь, – показал я на бутылку. – Сбавил бы обороты!
– А на хрена, Серега, мне теперь жизнь? С одним крылом трепыхаюсь. Заснуть бы – и не проснуться!
– Ну, это, дядь Миша, не тебе решать. Бог дал – бог взял. А пока не взял – живи!
– Живи… – морщась, он отхлебнул из стакана. – Нет для меня, Серега, больше жизни без Валентины, нет.
– Слушай, дядь Миша! – пришла в голову, как мне показалось, хорошая, можно даже сказать, спасительная для него мысль. – А давай мы тебе новое крыло найдем?
– Как это? – не понял он.
– Бабенку какую-нибудь одинокую подыщем.
– Зачем? – опять не врубился дядя Миша.
– Чтоб вторым крылом тебе стала. Будете вместе век свой доживать. Ты мужик еще ничего себе! Еще и молодуху можешь себе отхватить.
– Эх, Серега, – с укоризной покачал дядя Миша головой. – Крыло у человека… Да и у птицы тоже… Это тебе не запчасть к машине. В тракторе ежели полетела какая деталь, нужной такой же заменил – и все дела. А крыло… Оно вырасти из самого тебя должно, расправиться, твоей частью стать. И чтоб в полном согласии с другим твоим крылом быть. Как это… – наморщил он лоб. – Единосущным и нераздельным, вот! – торжественно поднял дядя Миша указательный палец.
Я с удивлением воззрился на старика, не ожидая от него такого не свойственного обычной его речи оборота. Заметив это, дядя Миша смущенно пояснил:
– Валины слова.
– Такими вы и были всю совместную жизнь, – сказал я. – Но сейчас-то Валентины Кондратьевны уже нет, и ее не вернешь. Вот и надо, наверное, подумать о новом «крыле».
– Нет, не могу, – помотал головой дядя Миша. – Обещание давал.
– Какое обещание, когда?
– Давно. Как только поженились…
И узнал я еще об одном важном эпизоде истории любви и верности супругов Железиных…
В одну из самых первых ночей их медового месяца, когда остывали они разгоряченные после любовного экстаза в отведенной им комнатушке-кладовке родительского дома, Валентина сказала Михаилу со смешком:
– Вот теперь вижу, как ты меня любишь – каждой жилочкой чувствую!..
– Да я тебя и без этого, знаешь, как люблю? – приобиделся Михаил. – Всегда и везде! Только сказать, объяснить не умею.
– А и не надо, Мишенька. Словами все не выскажешь, не выразишь. Слова, Мишенька, и фальшивыми могут быть – дымом в глаза. Недаром же в Библии говорится, что «слово изреченное есть ложь». Так что зачем их попусту тратить? Давай лучше пообещаем, что никогда ни на кого не променяем друг друга. Навсегда будем только ты и я, только мы с тобой – единосущные и нераздельные.
– Какие-какие? – переспросил Михаил.
– Слитные, значит, в единое целое, – пояснила Валентина.
– А, – понимающе улыбнулся Михаил, – вроде как «муж и жена – одна сатана».
– Нет! – решительно отвергла Валентина. – Негоже нам с тобой сатане уподобляться.
– Да я так… просто… поговорку вспомнил, – стушевался Михаил.
– Так как – обещаем?
– Ну, конечно же!
– Тогда скрепим наше обещание самой крепкой печатью, – сказала Валентина и потянулась к его губам…
– Вот, – посветлел дядя Миша лицом, – с тех пор и держу обещание.
– Это, конечно, замечательно, – осторожно, чтобы не обидеть старика, сказал я, – но тети Валентины Кондратьевны-то уже нет. Поэтому своим уходом из жизни она как бы освобождает тебя от данного обещания, так сказать, снимает обет верности. Ведь клятва не распространялась за пределы земной жизни. А в ее пределах ты свое обещание честно выполнил, и теперь свободен…
– Да какие там пределы! – отмахнулся дядя Миша. – Когда кого-то любишь, нет, я думаю, ни пределов, ни сроков давности. Не зря же Валя меня перед смертью просила…
Дядя Миша замолчал, отрешенно уставившись в одну точку. По щетинистым щекам его скатывались крупные горошины слез. Он не обращал на них внимания, а, может, просто не чувствовал.
– О чем просила? – вывел я его из оцепенения своим вопросом.
И услышал некоторые подробности последнего разговора супругов Железиных…
Вечером, за несколько часов до кончины Валентина Кондратьевна позвала мужа. Он поспешил к ней из кухни в ту самую спаленку, где я сейчас сидел, разглядывая фотографии в альбомах. Присев на краешек кровати, взял в руки ее высохшую пергаментную ладонь с набухшими синими жилами.
– Будем прощаться, Миша, – прошелестела она посиневшими губами.
– Что значит – прощаться? Что ты такое говоришь? – испугался он. – Никаких прощаний. Мы еще с тобой повоюем! – попытался ободрить жену, но поймав на себе ее немигающий взгляд, осекся.
Из глубины родных и всегда таких любимых карих глаз проступало сейчас что-то нездешнее, словно бы из потустороннего мира. Холодный озноб пробрал Михаила Ефимовича.
– Нет, Миша, уже не повоюем, – все тем же шелестящим голосом возразила Валентина Кондратьевна. – Пришла моя пора. Прожила, сколько отмеряно. Пора и честь знать. Главное, что хорошо прожила. С тобой вместе. Душа в душу. Как мечтала в девках полюбить раз и навсегда, так и сбылось. Славно, Мишенька, мы с тобой пожили, как ни тяжело, ни трудно бывало. Детей всех сохранили и подняли, внуки-правнуки теперь вон подрастают и радуют. Что еще для счастья надо!
– Мы и дальше продолжим… душа в душу… Вот только подлечишься…
– Нет, Мишенька, совсем немного мне осталось. Я чувствую… – она прикрыла глаза, – собираясь, видно, с силами, и продолжила: – Но ты, Мишенька, не печалься, ты продолжай меня любить, как любил всегда, как и всегда я любила тебя. Я тебя и там, – Валентина Кондратьевна устремила взгляд вверх, – буду, как и здесь, по-прежнему любить. Только… – взгляд ее стал страдальческим. – Молю тебя – не приводи в дом другую женщину. Не хочу, чтобы кто-то вставал между нами, разрушал наше существо единое. Даже когда ты останешься здесь, а я буду там. Прошу: сохрани нашу любовь и после смерти моей…
– А ты говоришь – пределы!.. – Дядя Миша плеснул в стаканы и сказал вдруг: – Вон и журавли… тоже… До конца вместе!
Журавли в нашем разговоре возникли пусть и неожиданно, но не случайно. Давненько уже, когда Валентина Кондратьевна еще была жива и здорова, решили мы однажды с дядей Мишей отправиться в середине апреля за первыми весенними грибами сморчками. Жареные в сметане они чудо как хороши! Дядя Миша вообще был неравнодушен к дикоросам. Собирал грибы, ягоды, черемшу, разные травы, березовый сок. А уж Валентина Кондратьевна умело использовала все это по назначению, делала грибное жаркое и соленья, варенья, лекарства и целебные напитки.
Идти было недалеко. Почти сразу же за нашим озером начинались мшистые осинники, где сморчки как раз и водились. Но памятуя, что ранняя пташка больше корма клюет, в путь пусть и недальний мы отправились чуть свет. Я с корзиной из ивовых прутьев, дядя Миша с заплечным коробом того же материала (обе емкости – дело его умелых рук) сошлись возле бревнышка у Железинской ограды. Рассвет еще только начинал пробиваться узкой полоской на горизонте, чуть подсвечивая осинники. Дядя Миша поправил заплечные ремни, я порылся в корзине, проверяя, не забыл ли я нож (главное орудие грибника) и фляжку с водой…
И тут полились с неба звуки, заставившие нас с дядей Мишей одновременно задрать головы. Серебристые и звонкие, они разносились по всей округе. А потом появились и сами источники этих звуков: вылетевшая откуда-то из глубины согры пара синевато-серых с большими крыльями длинноногих птиц.
– Журавли! – сказал дядя Миша. – Зарю приветствуют. Слушай, слушай, – придержал старик меня, вознамерившегося начать движение, – как они дуэтом-то!
Я прислушался.
«Кур!» – начинала одна птица. «Лы!» – подхватывала другая. И так без остановки и конца, отчего крики их сливались в сплошное, как журчание ручья, «курлы». Это было необычайно красиво, и на восходе солнца звучало как гимн наступающему дню.
Журавлиная пара между тем набрала высоту и, вытянувшись (головы, шеи, туловища, ноги) в одну линию, плавно заскользила к разгорающемуся рассветным пожаром горизонту.
– Хорошие птицы, верные, – провожая их теплым взглядом, сказал дядя Миша. – Всегда вдвоем, всегда парой.
– Да, – согласился я. – Они и пару себе выбирают один раз и до самой смерти.
– У нас тут неподалеку, в согре живет одна такая пара, – сказал дядя Миша. Гнездо у них там. Это, наверное, они и есть. Каждый год по весне прилетают.
– А почему ты думаешь, что именно они? – засомневался я.
– Да к бабке не ходи! Я их запомнил. Который год сюда прилетают, – сказал дядя Миша, пресекая дальнейшие возражения. – Они птицы верные, – повторил он. – И друг другу верные, и гнездовью своему… – И взор его затуманился.
– Ну, правильно, – безоговорочно на сей раз согласился я, – не случайно же, в большинстве стран, где журавли водятся, они символизируют счастливый, крепкий и гармоничный семейный союз.
– Ладно, Серега, пошли, – тронул меня за локоть дядя Миша. – Нас впереди хороший день ждет.
– Это почему?
– А потому, что примета есть: услышать утром журавлей – к хорошему дню.
И долго мы еще потом на нашей грибной охоте говорили об этих прекрасных и удивительных птицах, у которых есть чему поучиться человеку…
– А насчет того, что журавли до конца вместе, верно, да не совсем, – возразил я. – Вместе, пока оба живы. А если кто-то из них умирает, другой подыскивает себе новую пару.
– Да ну! – не поверил дядя Миша.
– Учеными-орнитологами доказано.
– А, все равно, – махнул он упрямо рукой, – никто мне больше не нужен!
Дядя Миша поднял стакан. Не чокаясь, молча выпили.
– Вот, значит, каков ее наказ… – вернулся я к последнему разговору супругов Железиных, о котором узнал несколько минут назад от дяди Миши. – Чтоб не только до гробовой доски, но и после… Ну, тогда тем более надо с этим, – щелкнул я себя по кадыку, – завязывать. Валентина Кондратьевна там, – поднял глаза к небу, – загул твой явно не приветствует. И даже, полагаю, осуждает тебя, журавля с горя запившего, – съехидничал я. – Погоревал, мол, и хватит, пора в руки себя брать. Нечего дурной пример молодым показывать. Внуки твои, особенно старшие, в том опасном возрасте находятся, когда всякую дурь с легкостью вируса могут подхватить. А тебя, запойного, лицезрея, глядишь, и сами твоему примеру последуют.
– Ты думаешь? – встрепенулся дядя Миша.
– А то!
Он поднялся, молча убрал с верстака недопитую бутылку, стаканы, остатки закуски, распахнул дверь сарая. Я распрощался и пошел восвояси, сожалея, что, видимо, так и не сумел повлиять на него.
И только гораздо позже понял, что был не прав и не оценил по достоинству волевые качества дяди Миши. Без слов, обещаний, медицинской и прочей помощи он смог-таки обуздать себя. Самостоятельно вышел из запойного штопора и выпивал с тех пор очень редко: так, иногда лишь в домашних застольях по какому-либо вескому поводу мог позволить себе рюмку-другую.
Но, раздружившись с алкоголем, дядя Миша физического здоровья и душевного равновесия не восстановил. На последнем отрезке жизни своей он сильно сдал. Всегда прямой и от природы статный – хоть снова портупею надевай, после смерти жены усох, скукожился, согнулся. А в глазах застыла неистребимая тоска. Он по-прежнему хлопотал по хозяйству: его можно было увидеть за каким-нибудь делом и во дворе, и на огороде, и в любимом сарайчике-мастерской… Только делал дядя Миша теперь все как бы на автомате по давно укоренившейся привычке. На самочувствие не жаловался. Наверное, и впрямь серьезных проблем со здоровьем не испытывал. Генетика у него была завидная: долгожителей в их роду хватало. Но чувствовалось, что уходит из него воля к жизни, истончается связывающая с нею нить. И только, наверное, врожденная привычка терпеть и держаться до последнего заставляла дядю Мишу существовать дальше.
Люба жаловалась при встречах, что у отца «крыша едет». Особенно когда журавлей заслышит. Тогда вдруг замрет посреди двора, устремив взор в небо, и долго будет стоять истуканом, шевеля губами, словно разговаривая с кем-то. «Папа, ты чего?» – пугалась Люба, если заставала его в таком положении. «Так, ничего… – приходил он в себя. – С мамой нашей говорил. Ждет меня, торопит». Понимая, о ком речь, Люба пугалась еще больше и подумывала, что надо бы сводить старика к психиатру.
Но я-то знал, что с «крышей» у дяди Миши все оставалось в порядке. Другое дело, что после смерти жены он, наверное, все сильней и болезненней ощущал себя покинутым журавлем, которого злая жестокая судьба насильно лишила верной пары. Возможно даже, что он и впрямь иногда известным ему одному способом переговаривался с нею, в небе парящей птицей. И рвался туда, в высь заоблачную.
Теперь вот настала и его пора…
11
– Сергей Владимирович, – возникла в дверях спаленки Люба, – пойдемте, и мы посидим, помянем.
Я двинулся за ней в залу. Там уже собрались ближайшие родственники Михаила Ефимовича и Валентины Кондратьевны: их сыновья и дочери со своими детьми, некоторые из которых успели уже обзавестись и собственными чадами. Не было на этой поминальной тризне давно умерших родителей дяди Миши и успевших уйти в мир иной его брата Павла и сестры Марии. Не было и любимого шурина Василия. Всех их пережил Михаил Ефимович! Но и оставшихся после его кончины – тех, кому завещал он продолжать род Железиных, больших и малых, собралось сейчас десятка полтора, не менее.
Я присоединился к сидевшим за поминальным столом, прошелся по ним взглядом. Практически в каждом просматривалось нечто неуловимо железинское. И в каждом можно было увидеть то черты Михаила Ефимовича¸ то Валентины Кондратьевны, то сразу обоих.
Я невольно любовался ими всеми и думал о том, что супруги Железины не только дали детям своим жизнь, поставили на ноги и задали им в ней верное направление. Они заложили еще и прочную духовную основу, крепкий нравственный стержень, без чего человек не может быть полноценным человеком – цельным и самодостаточным. И ничего для этого не придумывали. Просто жили по заветам и традициям своего народа, которые помогали преодолевать им труднейшие преграды и всегда, даже в моменты тяжелейших испытаний сохранять в себе истинно человеческое…
Погруженный в свои мысли, я прослушал, что говорил, поднявшись, старший сын Железиных Николай. Уловил только последнее слово «помянем». Не чокаясь, выпил со всеми. В разлившемся за столом печальном молчании, когда примолкли даже самые маленькие, слышался только легкий звон посуды. Длилось оно, впрочем, недолго. Тот же Николай, сидевший напротив, попросил меня:
– Сергей Владимирович, скажите что-нибудь! Вы же дружили с отцом. Он вас очень уважал.
Мне действительно хотелось сказать о нем что-нибудь. Более того – считал своим долгом это сделать. И даже кое-какие словесные заготовки приготовил. Тем не менее просьба Николая застала меня врасплох.
Что я мог сказать о дяде Мише, которого неплохо вроде бы знал и немало с ним общался? Как я, сам уже достаточно поживший, хотя и более молодого поколения человек, воспринимал и ощущал его?
Для меня, чья жизнь началась на исходе войны, а детство пришлось на первые послевоенные годы, еще не остывшие от огненного дыхания великой войны, люди, подобные Михаилу Ефимовичу Железину, всегда были живым, реальным, а не бронзово-мемориальным, воплощением русского воина-труженика – коренника как в делах ратных, так и трудах мирных. «Величайшее поколение величайшей силы духа», – назвал их герой романа одного из советских писателей1. Что это действительно так, подтверждает жизнь каждого из них, в том числе и Михаила Ефимовича, который честно и самоотверженно воевал, а, вернувшись, так же честно, с полной самоотдачей, работал. Его ратный и мирный труд не оставался незамеченным. Но сам он не стремился быть на виду. Напротив, стесняясь внимания к себе, старался оставаться в тени. На фоне липовых ветеранов-фронтовиков, которых немало развелось в нашем XXI веке, это особенно бросалось в глаза.
С дядей Мишей я сошелся, когда сам был уже в довольно-таки зрелом возрасте. Притягательный своей душевной аурой, он как-то сразу стал мне близок. Но была и причина глубоко личного для меня свойства.
Дело в том, что отец мой тоже принимал участие в Великой Отечественной войне. Правда, в отличие от дяди Миши, совсем недолгое. В декабре 1943 года он, молодым парнишкой-связистом с катушкой телефонного кабеля на спине, где ползком, где короткими перебежками под огнем противника прокладывал связь для наступающих частей Западного фронта. В кровопролитных этих боях моему отцу суждено было продержаться невредимым всего немногим больше недели. Тяжелое осколочное ранение от разорвавшейся рядом мины в область шеи с повреждением спинного мозга навсегда вывело его из строя. Почти полгода по этой причине он был парализован и не мог ходить. После лечения в одном из эвакуационных госпиталей Кавказа в августе 1944 года инвалидом первой группы вернулся домой. А в октябре следующего родился я. Но об этом он уже не узнает. За несколько дней до того осколок мины в позвоночнике, который хирурги в госпитале побоялись трогать, сказал свое последнее слово – моего отца не стало, а я еще до рождения сделался сиротой и безотцовщиной, его не увидев и не узнав.
Дядя Миша воевал примерно в тех же местах между Оршей и Витебском, и я подумал, что, может, они пересекались и даже были знакомы. А подумав так, почувствовал, помимо духовной, еще и что-то вроде родственной связи. Поэтому и воспринимал его как родного отца, которого судьба отняла у меня до появления на свет. И втайне жалел, что не суждено было познакомиться и сойтись тогда же, поздней осенью сорок пятого, дяде Мише с моей матерью, совсем молодой еще вдовой, и усыновить меня. Было немного стыдно перед Валентиной Кондратьевной за такие мысли, но мне действительно несколько эгоистически было этого жаль. Впрочем, не столько за себя, сколько за свою мать, которая после смерти моего отца еще два раза выходила замуж, но так и не обрела счастья…
А вот любовный союз супругов Железиных – это как раз тот редкий случай, когда Амур угодил точнехонько в «десятку», поразив одной стрелой сердца Михаила и Валентины и ею же соединив их в единый любящий организм – «единосущный и нераздельный», какими и оставались они на протяжении всей дальнейшей совместной жизни. Обремененные большими и малыми заботами, в тяготах и радостях бытия, они не забывали главного – любить. Друг друга, детей своих, внуков, дорогих и близких людей, родную землю, все живое на ней и саму жизнь вокруг. И этой неизбывной любовью они не переставали доказывать, что нет ничего важнее и значительней ее, что именно она, начинаясь в любящих сердцах и устремляясь в космические выси и дали, «движет солнца и светила» и продолжает жизнь в бесконечности.
И, задерживая взгляд на младших Железиных, я с надеждой думал, что со временем и они, усвоив науку любви старших, понесут ее как эстафету «разумного, доброго вечного» дальше. Уже ради одного этого поколению Михаила Железина стоило, не жалея себя, воевать, отстаивая с оружием в руках родную землю, а победив, все так же на пределе человеческих сил и возможностей отлаживать мирную жизнь, в которой, верилось им, «завтра будет лучше, чем вчера». И пусть самим вкусить этой «лучшей» жизни не пришлось, однако почву для нее они добросовестно и терпеливо возделывали. Худо, что плодами их кропотливого труда со временем стали часто пользоваться совсем не те, кому они предназначались. Но не Михаила и Валентина Железиных в том вина. Впрочем, это уже, как говорится, совсем другая история…
«Вот как-то так», – решил, наконец, я, медленно поднимаясь со своего стула и лихорадочно соображая, как бы это все короче и удобоваримее высказать.
Поднявшись, я вдруг заметил на тумбочке в переднем углу залы большой портрет дяди Миши в темно-коричневой деревянной раме, перевитой по углам траурными лентами, и горящей свечкой перед ним. Дядя Миша, словно слушая мои мысли, смотрел с него на меня внимательно, но в глубине глаз таилось сомнение. Как в тот раз, когда читал в газете мой очерк. Под этим взглядом рухнули все мои «заготовки». Неужели и сейчас я «заливаю солнцем» дядю Мишу, оставляя в тени что-то самое важное о нем?..
И тут до меня дошло, что дело, возможно, и не в том. Вернее не совсем в том. На портрете, срисованном с одной из фотографий семейного альбома, доморощенный художник запечатлел неистребимое сомнение дяди Миши, а достоин ли он, обыкновенный, ничем не примечательный, по его разумению, человек, каких не пересчитать в России, серьезного к себе внимания, когда полно персон куда более важных, заслуженных, значимых.
Но я-то был безоговорочно уверен, что достоин. И словно пытаясь убедить в том же самого дядю Мишу, обратился к его портретному образу:
– Дядя Миша… – сказал я. – Ты был настоящим человеком, отважным и работящим, надежным и верным в жизни и любви. Такими, как ты, всегда держалась и оберегалась земная жизнь. И, уверен, благодаря теперь уже вашими усилиями, продолжатели рода Железиных, – повернулся я к сидящим напротив сыновьям, дочерям и внукам дяди Миши, – будет держаться и оберегаться жизнь земная дальше. За настоящего человека!..
– И за любовь! – всхлипнула Люба. – Тоже настоящую. Какая у них с мамой была и нас, детей и внуков, солнышком согревала
И за любовь!.. – эхом откликнулся я.
Домой с поминок мы с женой возвращались уже на закате. Прогретый за день воздух стремительно остывал, напоминая о том, что отнюдь не лето сейчас, а уже первый осенний месяц на исходе. Ночами низины заволакивает густой туман, а кое-где и иней первых заморозков серебрит пожухшую траву.
Мы уже почти дошли до дома, как из тальниковых зарослей согры взмыли один за другим в темнеющее небо два серых птичьих силуэта. И через несколько мгновений с высоты над нами раздалось знакомое «курлы». «Кур!» – начинала одна из птиц. «Лы!» – подхватывала другая. В прохладе сгущающихся сумерек журавлиная песня разносилась далеко окрест. И опять, как и много лет назад, казалось, что там, в вышине, булькая и перескакивая с камешка на камешек, течет невидимый ручей.
Я заволновался, остановился, задрал голову. Журавлиная пара набрала высоту и, вытянувшись друг за другом в одну линию, плавно заскользила к тускнеющей полоске горизонта.
«Они, или нет? – молча спросил я себя, вспоминая тех, что увидели мы с дядей Мишей когда-то, отправляясь на утренней заре по грибы. И тут же засомневался: – Вряд ли? Столько уж времени прошло! Скорее, их потомки, не бросившие насиженное родительское гнездо. Впрочем, – подумалось, – какое это имеет значение? Важно, что по главной своей сути эти такие же, как и те – верные друг другу и гнезду своему в родной болотистой согре.

