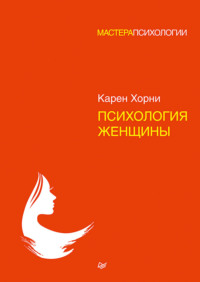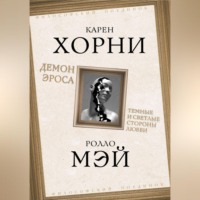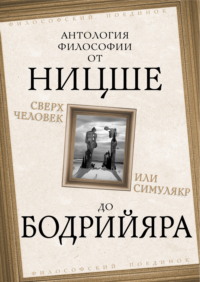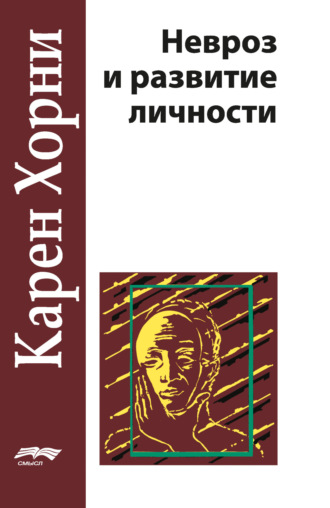
Полная версия
Невроз и развитие личности
В поиске славы ограничители воображения не срабатывают. Это не означает общей неспособности видеть необходимость и следовать ей. Особое направление в дальнейшем невротическом развитии может заставлять многих людей чувствовать себя безопаснее, ограничивая себя в жизни, а затем они могут рассматривать возможность ухода в фантазии уже как опасность, которой надо избегать. Они могут закрыть свой разум для всего, что видится им фантастическим, быть нерасположенными к абстрактному мышлению и сверхтревожно цепляться за видимое, осязаемое, конкретное или непосредственно полезное. Но хотя сознательное отношение к этим вещам меняется, каждый невротик в глубине души не хочет признать ограничений в том, чего он ожидает от себя, и верит, что этого можно достичь. Его потребность актуализировать свой идеализированный образ настолько императивна, что он должен оттолкнуть ограничители как неуместные или несуществующие.
Чем больше овладевает им иррациональное воображение, тем с большей вероятностью его должно попросту ужасать все, что реально, определенно, конкретно или окончательно. Он склонен питать отвращение ко времени, потому что это что-то определенное; к деньгам, потому что они конкретны; к смерти, потому что она окончательна. Но он может также не выносить определенность желания или мнения. В качестве иллюстрации приведу пример пациентки, которая лелеяла мысль о том, чтобы быть блуждающим огоньком, танцующим в луче лунного света; она могла прийти в ужас, поглядев в зеркало – не потому, что видела возможное несовершенство, а потому, что это заставляло ее осознавать, что она обладает определенными очертаниями, вещественна, «привязана к конкретной телесной форме». Это заставляло ее чувствовать себя птицей с прибитыми к доске крыльями. И как только эти чувства вплывали в сознание, она мгновенно испытывала желание разбить зеркало.
Конечно, развитие не всегда достигает такой крайности. Но каждый невротик, даже если поверхностно он может сойти за здорового, не расположен сверяться с фактами, когда дело доходит до его особых иллюзий относительно самого себя. И он должен быть таким, иначе иллюзии могут разрушиться. Отношения к внешним законам и правилам разнятся, но он всегда склонен отрицать действующие в нем самом законы, отказывается видеть неизбежность причины и следствия в психологических вопросах, или вытекание одного фактора из другого, или усиление одного другим.
Существует бесконечное число способов игнорировать факты, которые невротик предпочитает не видеть. Он забыл; это не считается; это случайно; это было из-за обстоятельств или потому, что другие его спровоцировали; он ничего не мог сделать, потому что это «естественно». Подобно бухгалтеру-мошеннику он идет на все, чтобы завести двойной счет; но, в отличие от него, он приписывает себе только достоинства и отрицает недостатки. Я еще не видела пациента, у которого откровенный бунт против реальности, как это выражено у Гарвея («Я двадцать лет боролся с реальностью и наконец преодолел ее»), не задевал бы знакомую струну. Или, вновь цитирую классическое выражение пациента: «Если бы не реальность, у меня все было бы совсем хорошо».
Остается внести ясность в различия между поиском славы и здоровыми человеческими стремлениями. На поверхности они могут выглядеть обманчиво похожими – настолько, что различия кажутся только в степени. Это выглядит так, как если бы невротик был просто более честолюбивым, более озабоченным властью, престижем или успехом, чем здоровый человек, как если бы его моральные стандарты были просто выше или ригиднее, чем обычно, как если бы он просто был более высокого мнения о себе или считал бы себя более значительным, чем обычно считают люди. И, действительно, кто отважится провести тонкую линию и сказать: «Вот где кончается здоровый и начинается невротик»?
Сходства между здоровыми стремлениями и невротическими влечениями существуют, потому что они имеют общие корни в специфических человеческих возможностях. Благодаря своим психическим способностям человек обладает даром выходить за свои пределы. В противоположность другим животным он может воображать и планировать. Многими путями он может постепенно расширять свои возможности и, как показывает история, реально так и происходило. То же самое верно и для жизни отдельного индивида. Не существует жестко фиксированных границ того, что он может развить, что он может создать. Учитывая эти факты, кажется неизбежным, что человеку точно не известны его пределы, и, следовательно, он легко ставит либо слишком низкие, либо слишком высокие цели. Эта неопределенность является той основой, без которой, видимо, не мог бы развиться поиск славы.
Основное различие между здоровыми стремлениями и невротическими влечениями к славе лежит в их побудительных силах. Здоровые стремления вырастают из присущей человеческим существам наклонности развивать данные им возможности. Вера в присущую человеку потребность развиваться всегда была фундаментальным принципом, на котором основан наш теоретический и терапевтический подход[12]. И эта вера крепла с новым опытом. Единственное изменение коснулось уточнения формулировки. Теперь я бы сказала (как указано на первых страницах этой книги), что жизненные силы реального Я побуждают его к самореализации.
С другой стороны, поиск славы происходит из потребности актуализировать идеализированное Я. Отличие является фундаментальным, потому что все остальные различия вытекают из него. Так как собственно самоидеализация является невротическим решением и как таковая компульсивна по характеру, все вытекающие из нее влечения также по необходимости являются компульсивными. Так как невротик, пока он придерживается своих иллюзий относительно себя, не может признать ограничений, поиск славы направлен в беспредельность. Так как главная цель – достижение славы, человек перестает интересоваться процессом ученья, работы или приобретения шаг за шагом и склонен презирать этот процесс. Он не хочет лезть в гору, он хочет быть на вершине. Следовательно, он теряет ощущение того, что значит эволюция и развитие, даже если он может говорить о них. Так как, наконец, сотворение идеализированного Я возможно только ценой правды о себе, его актуализация требует дальнейшего искажения истины, которому с готовностью прислуживает воображение. Таким образом, человек в большей или меньшей степени утрачивает в этом процессе интерес к истине, утрачивает ощущение того, что – правда, а что – нет. Эта потеря, наряду с другими, затрудняет различение подлинных чувств, убеждений, стремлений и их искусственных эквивалентов (бессознательное притворство) в себе и других. Акцент с «быть» смещается на «казаться».
Итак, различие между здоровыми стремлениями и невротическими влечениями к славе – это различие между спонтанностью и компульсивностью, между признанием и отрицанием ограничений, между чувством эволюции и фиксацией на видении главного конечного продукта, между сущим и кажущимся, правдой и фантазией. Таким образом, это различие не тождественно различию между относительно здоровым и невротичным человеком. Первый может не быть полностью вовлечен в воплощение своего реального Я, а второго не полностью влечет к актуализации его идеализированного Я. Тенденция к самореализации действует и в невротике; мы в терапии не могли бы ничем помочь развитию пациента, если бы в нем не было этого стремления. Но, хотя различия между здоровым и невротиком в этом отношении являются просто различиями в степени, различие между подлинным стремлением и компульсивным влечением, несмотря на поверхностное сходство, есть различие качественное, а не количественное[13].
По-моему, самый уместный символ невротического процесса, порожденного поиском славы, – истории о договоре с дьяволом. Дьявол, или другое олицетворение зла, искушает запутавшегося в духовных или материальных проблемах человека предложением беспредельного могущества. Но могущество тот может получить только на условиях продажи своей души или попадания в ад. Искушение может прийти к любому духовно богатому или бедному ибо оно взывает к двум могущественным желаниям: страстному желанию беспредельного и желанию легкого достижения. Согласно религиозным преданиям, величайшие духовные лидеры человечества, Будда и Христос, прошли через такое искушение. И, благодаря тому, что они имели в себе твердую основу, они распознали это искушение и смогли его отвергнуть. Более того, условия, поставленные в договоре, адекватны цене, которая должна платиться при невротическом развитии. Говоря этим символическим языком, легкий путь к беспредельной славе является также неизбежно путем к внутреннему аду презрения к себе и самоистязания. Вставая на этот путь, человек действительно теряет свою душу – свое реальное Я.
2. Невротические претензии
Невротик в поиске славы сбивается с пути в область фантастического, беспредельного, безграничных возможностей. По всей внешней видимости он может вести «нормальную» жизнь в качестве члена своей семьи и сообщества, делать свою работу и участвовать в развлечениях. Не осознавая этого или, по крайней мере, не осознавая степени этого, он живет в двух мирах – в мире своей потаенной личной жизни и в мире жизни официальной. И они не совпадают; приведем еще раз фразу пациента, цитированную в предыдущей главе: «Жизнь ужасна, она так полна реальности!»
Независимо от того, насколько невротик расположен сверяться с фактами, реальность неизбежно навязывает себя двумя путями. Человек может быть высокоодаренным, но во всем существенном он все же подобен любому другому – с общими человеческими ограничениями и значительными индивидуальными сложностями впридачу. Его актуальное существование не совпадает с его богоподобным образом. А окружающая его действительность не относится к нему так, как если бы находила его богоподобным. Для него час также состоит только из шестидесяти минут; он должен стоять в очереди, как любой другой; таксист или босс могут обращаться с ним так, как будто он простой смертный.
Оскорбления, претерпеваемые им, хорошо символизирует небольшой инцидент, который одна пациентка припомнила из своего детства. Ей было три года, и она грезила о том, что она сказочная королева, когда дядя поднял ее и шутливо сказал: «Вот тебе и на, ну и грязная же у тебя мордаха!» Она навсегда запомнила свои негодование и гнев. Подобным же образом такой человек почти постоянно сталкивается с озадачивающими и болезненными несоответствиями. Что он с этим делает? Как он их объясняет, как реагирует на них или пытается от них отделаться? Поскольку его личное возвеличивание ему слишком необходимо, он не может не заключить, что что-то неправильно в окружающем мире. Мир должен быть другим. И потому вместо того, чтобы пытаться преодолеть свои иллюзии, человек предъявляет претензии к внешнему миру. Он претендует на то, чтобы другие или судьба относились к нему в соответствии с его грандиозными представлениями о себе. Каждый должен обслуживать его иллюзии. Все, что не так, несправедливо. Он имеет право на лучшее.
Невротик чувствует, что имеет право на особое внимание, предупредительность, уважение со стороны других. Эти претензии на уважение достаточно понятны и иногда достаточно оправданны. Но они лишь часть более всеобъемлющей претензии на то, что должны удовлетворяться или должным образом уважаться все его потребности, вырастающие из его подавленных чувств, страхов, конфликтов и решений. Более того, что бы он ни чувствовал, ни думал и ни делал, – все это не может иметь никаких отрицательных последствий. В действительности это означает претензию на то, что психические законы не могут быть применены к нему. Следовательно, он не нуждается в осознании – или, во всяком случае, в изменении – своих трудностей. Стало быть, он больше ничего не должен делать со своими проблемами; это другие должны следить за тем, чтобы его не беспокоить.
Первым из современных аналитиков эти потаенные претензии невротика увидел немецкий психоаналитик Харальд Шульц-Хенке[14]. Он назвал их Riesenansprьche (гигантские претензии) и приписал им решающую роль в неврозе. Хотя я разделяю его мнение об их важности, моя собственная концепция во многом отличается от его. Я не думаю, что термин «гигантские» удачен. Он вводит в заблуждение, потому что предполагает, что претензии всегда чрезмерны по содержанию. Верно, что во многих случаях они не только чрезмерны, но прямо фантастичны; однако другие кажутся вполне разумными. И сосредоточение на непомерности требований затрудняет обнаружение в себе и в других тех требований, которые выглядят разумными.
Возьмем, например, бизнесмена, раздраженного тем, что поезд не отходит в удобное для него время. Друг, знающий, что на карту не поставлено ничего важного, может указать ему, что он в действительности слишком требователен. Наш бизнесмен ответил бы новой вспышкой негодования. Друг не знает, о чем говорит. Он занятой человек, и разумно ожидать, чтобы поезд уходил в разумное время.
Конечно, его желание разумно. Кто бы не хотел, чтобы поезд шел по удобному для него расписанию? Но мы не претендуем на это. Это подводит нас к сути явления: желание или потребность, сами по себе вполне понятные, превращаются в претензию. Неудовлетворение ее, далее, ощущается как несправедливая фрустрация, как обида, относительно которой мы вправе испытывать негодование.
Различие между потребностью и претензией очерчено ясно. Тем не менее, если психологические механизмы привели к превращению одного в другое, невротик не только не осознает различия, но на самом деле и не склонен видеть его. Он говорит о понятном или естественном желании, когда реально имеет в виду претензию, и он представляет, что имеет право на многие вещи, относительно которых капля здравого мышления могла бы подсказать ему, что это совсем не обязательно так. Я думаю, например, о некоторых пациентах, яростно негодующих, когда они получают вызов в полицию за парковку машины во втором ряду. Конечно, желание «проскочить» вполне понятно. Дело не в том, знают или не знают они, что нарушили закон. Но доказывают (если вообще это делают), что другие «проскакивают» и, следовательно, несправедливо, что именно они должны быть пойманы.
По этим причинам кажется целесообразным говорить просто об иррациональных или невротических претензиях. Это невротические потребности, которые человек невольно превратил в претензии. И они иррациональны, ибо предполагают право, привилегию, которых в действительности не существует. Другими словами, они чрезмерны уже самим фактом выдвижения их как претензий вместо того, чтобы распознавать их просто как невротические потребности. Специфическое содержание затаенных претензий варьирует в деталях в соответствии с конкретной структурой невроза. Однако, говоря обобщенно, пациенту представляется, что он имеет право на все, что для него важно, на удовлетворение всех его конкретных невротических потребностей.
Говоря о требующем человеке, мы обычно имеем в виду требования, предъявляемые другим людям. И человеческие взаимоотношения действительно составляют одну из важных областей, в которых возникают невротические претензии. Но мы значительно недооцениваем диапазон претензий, если ограничиваем их этим. Они так же точно адресуются и созданным человеком институтам, и даже, более того, самой жизни.
В области человеческих взаимоотношений всеобъемлющие претензии достаточно хорошо выражались пациентом, который во внешнем поведении был довольно робким и замкнутым. Не зная того, он страдал от растущей инертности и был довольно заторможенным в использовании собственных ресурсов. «Мир должен быть у меня на службе, – говорил он, – и я не должен хлопотать».
Столь же всеобъемлющую претензию таила женщина, которая в глубине души боялась сомнений. Она чувствовала за собой право на удовлетворение всех своих потребностей. «Немыслимо, – сказала она, – чтобы мужчина, от которого я хочу, чтобы он полюбил меня, не сделал этого». В ее случае претензия имела обратную сторону. Так как для нее было бы немыслимым поражением, если бы желание не было удовлетворено, она наложила ограничение на большинство желаний, чтобы не рисковать «потерпеть неудачу».
Люди, чья потребность состоит в том, чтобы быть всегда правыми, считают себя вправе никогда не подвергаться критике, сомнениям или недоверию. Те, кто одержим жаждой власти, ощущают право на слепое повиновение других. Те, для кого жизнь стала игрой, в которой они ловко манипулируют другими людьми, чувствуют, что вправе дурачить всех и, с другой стороны, никогда самим не быть одураченными. Те, кто боится лицом к лицу столкнуться со своими конфликтами, ощущают право на то, чтобы «проскочить», «обойти» свои проблемы. Человек, агрессивно эксплуатирующий и запугивающий людей, чтобы ему позволили что-то переложить на них, будет сетовать на несправедливость, если те настаивают на равноправной сделке. Высокомерный, мстительный человек, которого тянет оскорблять других и который при этом нуждается в их признании, считает, что имеет право на «неприкосновенность». Как бы он ни поступал по отношению к другим, он вправе претендовать на то, чтобы никто не возражал против его действий. Другим вариантом этой претензии является претензия на «понимание». Неважно, насколько мрачным и раздражительным является человек, он претендует на понимание. Человек, для которого «любовь» – всеобъемлющее решение, превращает свою потребность в претензию на исключительную и безусловную преданность себе. Отстраненный человек, по-видимому, довольно нетребовательный, настаивает на одном: чтобы ему не надоедали. Он чувствует, что ничего не хочет от других и, следовательно, считает себя вправе настаивать, чтобы его оставили в покое, независимо от того, что поставлено на карту. «Чтобы не надоедали» обычно подразумевает быть освобожденным от критики, ожиданий и усилий, даже если эти усилия в его интересах.
Вероятно, этих примеров невротических претензий, проявляющихся в личных отношениях, достаточно. В более безличных ситуациях, или по отношению к институтам, превалируют претензии с негативным содержанием. Польза от законов и правил считается само собой разумеющейся, но их же находят несправедливыми, когда они становятся невыгодными.
Я до сих пор благодарна случаю, происшедшему во время прошлой войны, потому что он открыл мне глаза на мои затаенные бессознательные претензии и, одновременно, на претензии других. Когда я возвращалась из поездки в Мехико, я была снята с рейса в г. Корпус Кристи; место потребовалось обладателю приоритетных прав. Хотя я считала это правило совершенно справедливым в принципе, я заметила, что яростно вознегодовала, когда его применили ко мне. Меня очень раздражала перспектива трехдневной поездки до Нью-Йорка на поезде. Кульминацией расстройства была утешительная мысль, что, может быть, это особая забота Провидения, так как что-то может случиться с самолетом.
В этом месте я вдруг увидела всю смехотворность своих реакций. И, начав обдумывать их, я обнаружила претензии, во-первых, на то, чтобы быть исключением, во-вторых, на особую заботу со стороны Провидения. С этого момента мое отношение в целом к поездке на поезде изменилось. Сидеть день и ночь в переполненном вагоне не стало более удобным, но я уже не чувствовала себя утомленной и даже начала получать удовольствие от поездки.
Я уверена, что каждый легко может умножить и расширить этот опыт наблюдения за собой и другими. Сложности, испытываемые многими людьми в соблюдении правил уличного движения – в качестве пешеходов и водителей, – часто являются результатом бессознательного протеста против них. Они не должны подчиняться этим правилам. Другие негодуют на «наглость» банка, напомнившего им, что их счет превышен. Опять же, многие страхи перед экзаменами или неспособность подготовиться к ним вырастают из претензии на освобождение. Подобно этому, негодование при виде плохого представления может вытекать из ощущения права на первоклассное развлечение.
Эта претензия на то, чтобы быть исключением, имеет отношение и к законам природы, психическим или физическим. Удивительно, насколько ограниченными могут становиться умные в других отношениях пациенты, когда речь идет о том, чтобы увидеть связь причины и результата в психологических вопросах. Я имею в виду довольно самоочевидные связи вроде таких: если мы хотим чего-нибудь достичь, мы должны вкладывать в это усилия; если мы хотим стать независимыми, мы должны стремиться к принятию ответственности за себя. Или: до тех пор, пока мы высокомерны, мы будем уязвимы. Или: пока мы не полюбим себя, мы не можем поверить, что нас любят другие, и неизбежно должны быть подозрительны к любым проявлениям любви. Пациенты, которым преподносятся такие причинно-следственные связи, могут начать спорить, доводы их становятся расплывчатыми и уклончивыми.
Многие факторы участвуют в формировании этой своеобразной ограниченности[15]. В первую очередь мы должны осознать, что охватывание таких причинно-следственных связей означает столкновение пациента лицом к лицу с необходимостью внутренних изменений. Конечно, всегда трудно изменить любой невротический фактор. Но к тому же, как мы уже видели, у многих пациентов есть интенсивное бессознательное отвращение к тому, что они могут быть объектом какой бы то ни было необходимости. Простые слова «правила», «необходимость» или «ограничения» могут заставить их содрогнуться – если они вообще способны понять их. В их личном мире для них все возможно. Следовательно, признание любой необходимости применительно к себе реально выталкивало бы их из собственного возвышенного мира в действительность, где они оказывались бы объектами тех же законов природы, что и любой другой человек. И именно эта потребность устранить необходимость из своей жизни превращается в претензию. При анализе это проявляется в ощущении своего права быть выше необходимости изменений. Таким образом, они бессознательно отказываются видеть, что должны изменить установки в самих себе, если хотят стать независимыми, менее уязвимыми или способными поверить в то, что любимы.
Самыми потрясающими являются некоторые тайные претензии к жизни в целом. Любые сомнения относительно иррационального характера претензий в этой области обязательно исчезают. Естественно, ощущение человеком своего богоподобия было бы разрушено столкновением лицом к лицу с фактом, что для него жизнь тоже конечна и непрочна, что судьба может в любой момент ударить его несчастным случаем, несчастьем, болезнью или смертью – и взорвать его ощущение всемогущества. Потому что (повторим древнюю истину) с этим мы мало что можем поделать. Мы можем избежать определенного риска смерти и можем в наше время защититься от финансовых потерь, связанных со смертью; но мы не можем избежать смерти. Будучи не в состоянии соприкоснуться с непрочностью жизни, невротик развивает претензии на неприкосновенность, или на то, что он является помазанником Божьим, или что счастье всегда на его стороне, или на легкую жизнь без страданий.
В противоположность претензиям, действующим в человеческих взаимоотношениях, претензии к жизни в целом не могут эффективно отстаиваться. Невротик с такими претензиями может делать только две вещи. Он может в уме отрицать, что с ним что-либо может случиться. В этом случае он склонен быть неосторожным: выходить, температуря, в холодную погоду, не принимать мер против возможных инфекций или вступать без предосторожностей в половые сношения. Он будет жить так, словно никогда не состарится и не умрет. Следовательно, если его поразит какое-то несчастье, это, естественно, явится сокрушительным переживанием и может ввергнуть его в панику. Хотя событие может быть незначительным, оно разобьет его горделивую уверенность в своей неприкосновенности. Он может обратиться в другую крайность и стать сверхосторожным по отношению к жизни. Но это не будет означать, что он отказался от своих претензий. Это скорее будет свидетельством того, что он не хочет вновь подвергать себя осознанию собственной ограниченности.
Другие установки по отношению к жизни и судьбе оказываются более ощутимыми, пока мы не узнаем стоящих за ними претензий. Многие пациенты прямо или косвенно выражают чувство несправедливости того, что они страдают из-за тех или иных своих сложностей. Говоря о своих друзьях, они будут указывать, что несмотря на то, что некто тоже является невротиком, он более спокоен в социальных ситуациях, пользуется большим успехом у женщин; другой более агрессивен или более полно наслаждается жизнью. Такие повороты при всей их тщетности кажутся понятными. В конце концов, каждый страдает от своих личных трудностей и, следовательно, предпочел бы не иметь тех конкретных сложностей, которые его беспокоят. Но реакция пациента на пребывание вместе с кем-то из этих вызывающих зависть людей указывает на более серьезный процесс. Он может вдруг проявить холодность или уныние. Рассматривая такие реакции, мы обнаруживаем, что источником беспокойства служит ригидная претензия на то, что он вообще не должен иметь никаких проблем. Он имеет право быть обеспеченным лучше, чем кто-либо еще. Более того, он имеет право не только на жизнь, лишенную личных проблем, но и на преимущества тех, кого он знает лично или, скажем, по экрану: право быть таким же скромным и умным, как Чарли Чаплин, таким же человечным и отважным, как Спенсер Трейси, таким же энергичным и мужественным, как Кларк Гейбл. Претензия на то, что я не должен быть собой, слишком иррациональна, чтобы проявляться как таковая. Она выступает в форме обидчивой зависти к любому, кто лучше обеспечен или более счастлив в своем развитии; в подражании им или обожании их; в адресованной психоаналитику претензии признать за ним все его желаемые, часто противоречивые, достоинства.