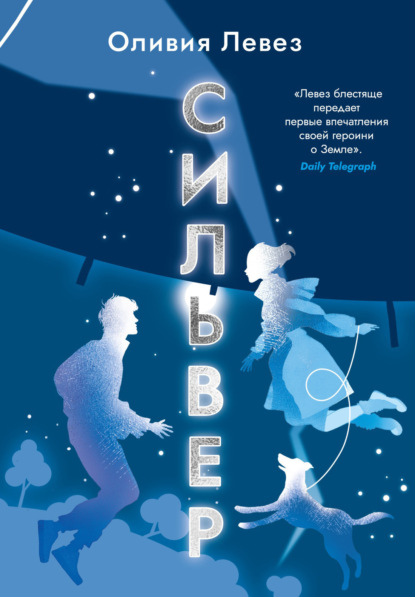Полная версия
Порез
Мамин рот продолжал шевелиться, но персонаж-я уходил прочь, лавировал в лабиринте диванов и столиков в приемной и еще диванов, пока не оказался в туалете для посетителей и не начал тереть внутренней стороной запястья о ребристый край аппарата с бумажными полотенцами. Все мое тело как будто стало одним этим местом на руке, и оно умоляло почесать его, поскрести, порезать – что угодно, что угодно – облегчения ради. Нажим, яркие капли крови, и наконец я в порядке. Я натянула рукав вниз, ненадолго прижалась щекой к холодной кафельной стене, а потом вернулась в приемную как ни в чем не бывало.
Только приемная почти опустела. Мне казалось, я пробыла в туалете всего минуту, но мама, и Сэм, и почти все остальные уже ушли. Я пошла по лабиринту диванов и столиков, заставляя себя концентрироваться и идти медленно, чтоб не броситься бежать.
Наконец я нашла Сэма, он сидел один в игровой – темном, похожем на библиотеку помещении, где хранятся настолки и карты, в которые никто никогда не играет. Игровая – мое любимое место здесь; я ухожу туда почти каждый вечер, когда у нас свободное время, чтобы не слышать фальшивого смеха из телика в нашей гостиной и фальшивых аплодисментов из телика на посту сотрудниц, и радио, и фенов в спальнях. Когда я вошла, Сэм обернулся и заулыбался, обнажив свои крупные новые кроличьи передние зубы.
– Кэл! Глянь, какая у них есть игра, – сказал он. – «Четыре в ряд».
«Четыре в ряд» – что-то вроде «крестиков-ноликов», где ты должен выставить ряд из четырех фишек в пластиковом, вертикально стоящем поле, и это наша с ним любимая игра. Мы начали играть в нее, когда Сэм заболел и ему запретили бегать сломя голову. Сначала я поддавалась, потому что он младше и потому что он болен. А теперь он каждый раз выигрывает.
Не знаю, как ему это удается, но Сэм видит сразу два или три способа выиграть. А я все время трачу свои ходы просто на то, чтобы заблокировать его, или пытаюсь выставить свою четверку в вертикальный ряд, пока Сэм не кричит «Попалась!» и не показывает на какую-нибудь свою законченную диагональ, которую я абсолютно прохлопала.
– Сыграем? – сказал он.
Я оглянулась проверить, нет ли кого поблизости. «Конечно», – хотела я ответить. «Конечно». Я сделала усилие, чтобы заговорить, но ничего не произошло. Я посылала команды от мозга ко рту. Ничего. Я задумалась, могут ли мышцы, обычно задействованные в речи, забыть, как они работают, от долгого неиспользования.
Некоторое время я таращилась в окно, как будто ответ был где-то там. Я кивнула.
Сэм выбрал черные фишки. Я взяла красные. Так всегда. Это даже не обсуждается. Пока мы сидели за столом и играли, единственный звук производили фишки, падая в пластиковые отверстия поля. Я представила, как произношу что-нибудь такое необязательное, старшесестринское – о Лайнус, о коллекции хоккейных карточек Сэма, – но меня вымотала сама мысль о том, чтобы заговорить.
Сэм опустил очередную фишку в поле и показал на ряд из четырех черных кружков, взявшийся из ниоткуда.
– Попалась, – сказал он. – Хочешь еще партию? – Он не стал ждать. – Ладно, – ответил он сам себе.
Тут до меня дошло, что Сэм понимает. Каким-то образом он узнал – своим странным, восьмилетним, мудрым образом, – что я не разговариваю. И стал говорить за нас обоих. Я ответила, опустив красную фишку в отверстие ровно по центру нижней линии. Это мой любимый первый ход.
– Кэл, – сказал он, качая головой, – старый, утомленный Сэм, делающий вид, что я разочаровала его. – Тебе нужно мыслить нешаблонно. – Я смотрела, как он бросает черную фишку в угол поля. – Это значит смотреть на вещи с разных сторон, – сказал он. – Мистер Уэйсс говорит, у меня хорошо получается.
Я бросила красную фишку сверху своей первой и задалась вопросом, кто такой мистер Уэйсс.
– Это мой тьютор. – Еще одна черная фишка заблокировала мой ряд. – Он приходит к нам домой.
Значит, Сэм снова настолько плох, что не может ходить в школу. А это значит, что мама расстраивается еще больше, чем обычно. А это значит, что папа еще больше задерживается на работе, чем обычно, или проводит больше времени с клиентами или с людьми, которых он надеется сделать клиентами, хотя они почему-то никогда ими не становятся.
– Не волнуйся, – сказал Сэм. – Мы за это не платим. Школа платит.
Я понятия не имела, как сходить, так что начала строить новый ряд с самого низа.
– Попалась! – Сэм показал диагональную четверку черных фишек. – Нешаблонное мышление, Кэл.
Он освободил поле, чтобы начать новую партию.
– Мама пошла поговорить с одной из твоих, ну, этих, учительниц. – Что-то в его словах, в том, как по-детски он это произнес, заставило меня почувствовать себя плохо. Он опустил черную фишку в угол. – Она пошла искать ее, пока ты была в туалете.
Я опустила красную фишку в центральное отверстие. У меня не было сил на нешаблонное мышление.
Сэм держал свою фишку над полем, готовясь сделать ход.
– Когда ты вернешься домой, Кэл? Мне никто ничего не говорит.
Мы еще посидели какое-то время, не знаю, как долго. На лице у Сэма сначала была надежда, потом серьезность, потом беспокойство, а потом что-такое, чего я не поняла.
– Да все нормально, – сказал он наконец. – Просто Лайнус скучает по тебе.
Я поднимаю глаза и рассматриваю тебя, по-прежнему сидящую здесь: лодыжки скрещены, на коленях блокнот. Ненавижу этот блокнот, потому что знаю: какие-то случайные вещи – типа твоего кресла, напоминающего мне о мертвой корове, – могут оказаться в нем в качестве доказательства того, что я псих. Но еще больше я ненавижу, как ты каждый день переворачиваешь страницу и пишешь сегодняшнюю дату, и каждый день, когда ты провожаешь меня до дверей, я вижу, что страница пуста.
Ты встаешь и надеваешь на ручку колпачок. Видимо, пора уходить.
Столовая здесь провоняла влажным запахом приготовленных на пару овощей – одного этого хватит, чтобы у любого начались пищевые затруднения. Но есть кое-что похуже запаха – шум. Иногда, если я, например, в Классе или игровой, можно притвориться, что это место – просто школа-интернат. Но когда все гостьи из остальных групп собираются вместе в столовой, орут, и ржут, и спорят, и едят, то не остается никаких сомнений, что ты в психушке. Наша группа должна сидеть вместе. Сидни ставит поднос на стол и пристраивается рядом со мной.
– Я постигла философию еды в «Псих-ты». – Она обращается ко всем сидящим за столом сразу.
Люди с пищевыми затруднениями поворачиваются к ней, чтобы внимательно послушать. Я кручу свои спагетти туда-сюда, пока они не соскальзывают с вилки.
– У них тут четыре основных вида еды: паста, пюре, пудинг и паштет. Они подают только то, что на «п».
Дебби вздыхает.
– Серьезно, – говорит Сидни, – вы заметили?
– Достала паста, – говорит Тара. – У меня проблемы со всеми этими углеводами.
– Ага, – говорит Тиффани. – Полная хрень.
– На прошлой неделе давали курицу, – говорит Дебби.
– Да, Дебби, мы помним, – говорит Тиффани. – Это был важнейший момент в твоей жизни.
Из-за того что нам, гостьям, нельзя давать настоящие столовые приборы, вся еда должна быть достаточно перемолотой, чтобы ее можно было есть пластиковыми ложками. Но в прошлый четверг у нас был цыпленок по-королевски, и поскольку в нашей группе только Дебби на Третьем уровне, то именно ей поручили выдать нам тупые пластиковые вилки и ножи. А после еды она же их собирала. «Как на пикнике», – сказала она тогда.
Сидни меняет тему.
– Смотрите, – говорит она, показывая в дальний конец столовой. – Призрак.
Женщина с седой косой до пояса вальсирует вокруг стола с салатами. На ней длинное белое платье, а руки вытянуты так, будто с ней танцует невидимый партнер.
– Она из «Чувихи», – говорит Сидни.
– Это что такое? – спрашивает Тара.
– Отделение, где держат настоящих психов.
– Ты имеешь в виду «Чуинги», – говорит Дебби.
– «Чувихи», – говорит Сидни. – Надо быть реально прикольной чувихой, чтобы туда попасть.
Все смеются.
– Если попала туда, уже не выйдешь.
На этот раз никто не смеется.
Ужин обычно длится недолго. Потому что первый пришедший в гостиную получает пульт от телика. Но сегодня какая-то задержка; из болтовни вокруг я вычленяю – происходит что-то необычное.
– Это здорово, – воркует Дебби над Беккой. – У тебя здорово получается.
Бекка опускает ресницы и отламывает кусочек от брауни. Потом она кладет этот кусочек на тарелку и разрезает его напополам пластиковой ложкой.
– Ты ведь съешь брауни целиком, да? – Дебби произносит это громко, чтобы все услышали.
Бекка кивает с наигранной скромностью.
– Ну же, – говорит она, тыча своим тонким маленьким локтем в руку Дебби. – Ты ведь знаешь, что я не могу есть, пока вы все глазеете.
– Хорошо-хорошо, – объявляет Дебби. – Все-все, не смотрите на Бекку.
Сидни соединяет большой и указательный палец, показывая Бекке «о’кей». Потом все очень демонстративно отворачиваются. Я отодвигаю свой стул назад, трогаю металлическую полоску, идущую снизу по краю стола, и смотрю вниз, на ноги. Гомон, состоящий из бряканья тарелок и кружек и громких разговоров, сначала затихает, потом снова нарастает, громче, чем был. И тогда я вижу, как Бекка роняет брауни с тарелки на колени. Она заворачивает его в салфетку, плющит до плоского состояния и сует в карман.
Спустя еще немного времени Бекка говорит, что можно смотреть. Все охают и ахают. Раздается три звонка – это сигнал, что ужин закончен; Дебби говорит, что сегодня надо отдать пульт Бекке.
Позднее вечером все смотрят в гостиной «Свою игру»[5], а я с кучей стирки в руках прячусь в нычке возле поста сотрудниц и жду, когда будет пусто. Мне приходится стирать через день, потому что мама дала мне с собой почти исключительно пижамы. Точнее, ночнушки. Новенькие, с цветочками и бантиками.
Я дожидаюсь, пока Рошель, дежурная по туалетам, уйдет с поста и займет свое место на оранжевом пластиковом стуле между туалетами и душевыми кабинками. Потом я чуть-чуть придвигаюсь к посту и жду, когда меня заметит Руби.
Кожа у Руби цвета индиго, а прическа похожа на старинный заварочный чайник. Но лучшее в Руби – это ее обувь: старомодные сестринские белые туфли. В отличие от остальных сотрудниц, которые одеваются так, будто идут в офис, или в торговый центр, или еще куда-то в этом роде, Руби носит толстые белые чулки и настоящие сестринские туфли. В мою первую ночь здесь единственным, что помогло мне заснуть, был скрип ее шагов по гладкому зеленому линолеуму, когда она делала обход. Не могу толком объяснить почему, но я доверяю этим туфлям.
Руби сидит и вяжет что-то розовое, может одеялко для младенца. Я наблюдаю, как ее узловатые руки летают над пряжей в такт с шуршанием и постукиванием спиц. Я гадаю, чем занимается Руби, когда она не в «Псих-ты». Может, она чья-то бабушка, может, чья-то соседка.
Увидев меня, она улыбается.
– Проводить тебя в прачечную? – говорит она.
Я не отвожу глаз от розовой штуки, выходящей из-под ее спиц.
– Ага, ладушки, – отвечает она сама себе. – Обожди секунду, хорошо? – Она не требует от меня ответа. – Хорошо, – говорит она.
Как и Сэм, Руби не рассчитывает на какие-нибудь слова от меня. Ей нормально говорить за нас обеих. Я прислоняюсь к стойке и наблюдаю, как она наматывает пряжу на палец и довязывает несколько петель. Потом она кладет вязанье на стол и поднимает свое невысокое плотное тело со стула. У нее звенят ключи, и она говорит:
– Ну вот, детка. Пойдем.
Я пытаюсь вычислить правильную дистанцию между мной и Руби, пока мы идем по коридору. Сначала я держусь стены. Но это как-то неправильно, и я придвигаюсь ближе, чтобы подравнять свой шаг с шагом Руби; натыкаюсь на нее и снова отхожу подальше. После этого опять держусь стены. Когда мы доходим до лестницы, Руби придерживает дверь, а потом, когда мы обе оказываемся снаружи, отпускает ее, и та захлопывается. Теперь мы в нашем личном маленьком мирке, тихом мирке лестницы, где исчезает весь шум жилого крыла – постоянная музыка, болтовня и голоса из телика. Она останавливается на мгновение и протягивает руку. В руке маленькая ириска типа тех, которые моя бабушка держала в вазочке у себя в гостиной.
– Давай бери, – говорит она. – Все нормально. Ты же не одна из тех девчушек, у которых с едой беда, верно? – Она сует конфетку мне в руку. – Вот так. И потом, чуть-чуть сладкого никогда никому не вредило, – говорит Руби. – Я, может, и не выучена на психолога, но кое-что в этой жизни понимаю.
Она легонько стучит себя по груди, как будто именно там хранится это ее понимание жизни.
Когда мы добираемся до прачечной, Руби отпирает шкаф, где хранятся средства для стирки; она прислоняется к стене и смотрит, как я складываю свои джинсы и рубашки в машинку, отмеряю и переотмеряю порошок, складываю и перескладываю вещи в барабане, надеясь, что она скажет еще что-нибудь про свое понимание жизни.
Но она молчит. Я слышу только шуршание, когда она разворачивает конфетку себе.
– Ну вот и славно, деточка, – говорит Руби, когда я закрываю дверцу машинки. – А теперь пойдем обратно.
На обратном пути мы проходим мимо знака аварийного выхода, там висит схема здания, и на этой схеме – большая красная стрелка и надпись: «ВЫ ЗДЕСЬ».
Интересно, если «Псих-ты» загорится или что-нибудь такое, смогу ли я заорать?
Сегодня ночью многовато плача. У спален тут нет дверей, так что плач – или стоны, или всхлипывания – разносится по всему коридору. Иногда я лежу в постели и представляю себе реку всхлипов, текущую мимо и оставляющую лужицы страданий на каждом пороге.
В первые дни здесь я тратила уйму времени, чтобы угадать плачущую по голосу и месту. Кто-то неподалеку мяукает, как котенок. Мне кажется, это Тара. У кого-то в конце коридора отрывистый плач, который сначала похож на смех. Это Дебби, я практически уверена. Но со временем я решила, что игра в угадайку, какой девочке принадлежит тот или иной плач, еще больше мешает заснуть.
Тогда я придумала игру, которая отвлекает меня от плача.
Игра простая. Я лежу и фокусирую все свое внимание на дыхании Сидни. Сидни, которая засыпает, как только выключили свет, спит на спине с широко открытым ртом. Если я сильно напрягаю слух, то слышу, как воздух входит в нее с легким «аах» и выходит с «хаа». А если очень постараться, то можно заметить тот самый миг, когда вдох превращается в выдох.
Сегодня, когда Ума отводит меня в твой кабинет, она зависает перед дверью дольше, чем обычно, и тычет носком одного кроссовка в носок другого. Я тычу носком одного кроссовка в носок другого, замечаю, что мы делаем одно и то же, и прекращаю. Ума тоже прекращает, потом по одной вытаскивает руки из карманов и сцепляет их перед собой. Она медленно поднимает подбородок и наконец, приложив огромные усилия, смотрит мне прямо в лицо. А потом она улыбается.
Улыбка выглядит какой-то неуместной на покрытом красными пятнами лице Умы, как будто бы Ума улыбается не слишком часто, как будто она только тренируется.
Я не отвожу взгляда, тем самым пытаясь показать ей, что я не против, что на мне можно тренироваться.
Потом она уходит, и я вслушиваюсь в удаляющийся скрип ее обуви.
Ты наклоняешься вперед, сидя в своем кресле из мертвой коровы; я отодвигаюсь.
– У меня есть теория, – говоришь ты.
Тогда я решаю, что хочу узнать точно, сколько полосок на твоих обоях. Рыжеватая, белая. Рыжеватая, белая, рыжеватая, белая.
– Всего лишь догадка, – говоришь ты.
Рыжеватая. Белая. Рыжеватая. Белая.
– Я не знаю, почему ты ни с кем не разговариваешь…
Полоски выцветают, и теперь сложно разглядеть, где заканчивается рыжеватая и начинается белая.
– Но предполагаю, что молчание требует огромных сил.
Я представляю пробежку после школы, нечто, требующее много сил, по крайней мере поначалу. Хотя после первых полутора километров включается эффект канцелярской замазки. Я перестаю замечать деревья, и дорогу, и холод, и вообще куда я бегу. Как будто приходит кто-то с большим ведром белой жидкости и замазывает все вокруг меня. Иногда я даже забываю, что бегу, и вдруг натыкаюсь на какое-нибудь здание или дорогу, которых никогда не видела раньше, и понимаю, что забежала слишком далеко. Тут эффект замазки выключается. Обычно в таких случаях я разворачивалась и бежала домой, гадая, как мне вообще хватило сил.
– Это, должно быть, требует много сил, – говоришь ты.
Я моргаю.
– Не разговаривать. От этого, вероятно, очень устаешь.
Я наблюдаю за пылинками, медленно парящими в лучах послеполуденного солнца, и неожиданно чувствую ужасную усталость. Что-то внутри меня провисает, будто шов разошелся. Но мозг сопротивляется.
Это мама все время устает. Мама и Сэм. Мама устает мыть все с антисептическим спреем, и готовить Сэму специальную еду, и вычищать всякую грязь из всех фильтров и вентиляционных решеток, чтобы у Сэма не было приступов астмы, – так устает, что иногда ей приходится отдыхать весь день. А Сэм иногда так устает, просто собираясь в школу, что ему приходится сразу же возвращаться в постель.
И это значит, что нужно вести себя абсолютно бесшумно, когда я возвращаюсь из школы, чтобы они могли отдохнуть. И это может длиться десять минут или десять часов. И это значит, что чистить и убирать снова мне. И это все равно не предотвращает приступ у Сэма. И это значит, что он может оказаться в больнице на пару часов или пару дней. И это значит, мама будет там все это время, пока не устанет настолько, что ей придется вернуться домой и отдохнуть. И это значит, мне снова чистить и убирать. А это значит, я просто не устаю.
– …Тебя здесь в ситуации, когда ты очень многое не можешь контролировать.
Я поднимаю глаза и соображаю, что ты все это время говорила.
– Практически все, чем ты здесь занимаешься, определено не тобой, а чем-то за пределами твоего контроля: во сколько вставать, как часто посещать групповую терапию, когда приходить ко мне. Так?
Теперь до меня доходит, что ты говоришь про «Псих-ты»; я возвращаюсь к подсчету полосок на обоях.
– Иногда в неподвластных нам обстоятельствах мы делаем странные вещи – в частности, вещи, которые требуют много сил; это такой способ вернуть себе ощущение, что у нас все-таки есть контроль над ситуацией.
Рыжеватая и белая полоски сливаются.
– Но, Кэлли. – Ты говоришь очень тихо. Мне приходится перестать считать на минуту, чтобы расслышать твои слова. – У тебя было бы намного больше контроля… если бы ты заговорила.
Обычно утром я стараюсь умываться последней. Так мне не приходится видеть других девочек печальными и размякшими, какими бывают люди, пробудившись от сновидений. Но сегодня утром я прохожу мимо Рошель, дежурной по туалетам, и натыкаюсь на Тару, стоящую у раковины в ночной рубашке и бейсболке и делающую макияж. Я выбираю самую дальнюю от нее раковину и долго и тщательно выдавливаю пасту на щетку.
Через некоторое время я немного отступаю, чтобы встать под правильным углом к зеркалам и видеть дюжину или около того отражений Тары. Тара снимает бейсболку. Осторожно касается расческой головы. Разглаживает тонкие бесцветные пряди вокруг лысины. Что-то в этом обнаженном участке скальпа так плохо действует на меня, что приходится отвернуться.
– Как думаешь, на завтрак успеем?
Я изучаю струю воды, вытекающую из крана. Краем глаза замечаю, что Тара надела бейсболку и разговаривает со мной.
– Нам надо пошевеливаться, – говорит она. – Дебби говорит, сегодня блинчики.
Голос у Тары удивительно глубокий и женственный для человека, который весит всего сорок два килограмма. На прошлой неделе на Группе она объявила, что это ее новый рекорд. Пара людей захлопали. Она плакала.
Я открываю кран на полную и таращусь на воду, как будто это очень, очень важно. Я не вижу Тару, стоящую на расстоянии нескольких раковин от меня, но ощущаю ее взгляд, и внезапно мне становится очень плохо оттого, что я не отвечаю человеку, который весит всего девяносто два фунта и должен прикрывать лысину бейсболкой.
Звук текущей воды нарастает, стихает, снова нарастает. Тара направляется к двери, возле которой на оранжевом стуле сидит Рошель и читает журнал «People».
– А ты правда хочешь, чтобы мы отстали от тебя?
В том, как она спрашивает, нет ничего обидного; в ее голосе только любопытство.
Я трачу как можно больше времени на то, чтобы почистить зубы.
В конце концов она уходит.
Сегодня день смены постельного белья. Все мы, гостьи, должны выстроиться в очередь в прачечной, сдать использованные простыни и полотенца и получить чистые. Во время смены белья все поголовно демонстрируют подобающее поведение, возможно, потому что Дорин, отвечающая за этот процесс, относится к нему очень серьезно. Каждую неделю она развешивает в прачечной написанные от руки плакатики, где много заглавных букв и восклицательных знаков. «Очередь справа от Сотрудника!» – написано на одном. «Пожалуйста, подготовьте белье для проверки Сотрудником!» – на другом.
Я стою в хвосте очереди – справа от Сотрудника, с подготовленным для проверки бельем, – когда сзади подходят Сидни и Тара. По запаху сигарет я догадываюсь, что они только вернулись с террасы для курения, где все зависают между сессиями.
– Привет, ЛМ.
Мои щеки начинают полыхать – мне всегда плохо из-за того, что я не отвечаю Сидни, а она всегда здоровается со мной, как будто я нормальная. Я замираю и жду.
– Угораю с этих объяв, – говорит Сидни через какое-то время. Я немного расслабляюсь, поняв, что ее слова обращены к Таре. – Вон та моя любимая.
Я не могу не слушать.
– «Просим гостей воздержаться от снятия наматрасника в конце пребывания». – Сидни читает объявление Дорин глубоким официозным тоном. – Типа кто-то такой: «Хм, какой же сувенир взять из „Псих-ты“? О, точно! Наматрасник!»
Внезапно у меня в воображении Дорин отчаянно борется с кем-то за наматрасник. Я вижу, как она жмет аварийную кнопку и потом катается по полу с одной из девочек, пытаясь вырвать какой-то из своих драгоценных наматрасников. К горлу подступает смешок. Я сглатываю. Перед моим мысленным взором разворачивается полноценная битва, где гостьи и сотрудницы насмерть бьются за наматрасники. Я прикусываю щеки изнутри. Я вонзаю ногти себе в ладони. Не помогает. Я бросаюсь из очереди и бегу к лестнице.
– Ты куда? – кричит Дорин. – Это нарушение правил, слышишь?
За мной захлопывается дверь, и я наконец в прохладном и тихом мирке лестничного пролета. Я шагаю через две ступеньки, топая как можно громче, чтобы заглушить странные, придушенные звуки вырывающегося из меня смеха.
Сегодня в игровой дежурит сотрудница, которую я раньше не видела, – молодая, улыбчивая и явно новенькая. Она здоровается и спрашивает, не хочу ли я сыграть в «Эрудит».
– А как насчет «Погони за фактами»?[6] – говорит она. – Я в ней мастер.
Я беру коробку «Четыре в ряд» и сажусь спиной к ней. Потом начинаю играть сама с собой. Имитирую стратегию Сэма, нешаблонное мышление, и хожу куда попало, вместо того чтобы начинать всегда одинаково и пытаться построить одну очевидную прямую линию по скучной схеме. Через некоторое время улыбчивая молодая сотрудница встает и выходит переговорить с другой сотрудницей у поста, приглядывая за мной через стекло.
Вскоре решетка превращается в безнадежный хаос красных и черных фишек; везде заблокированные ряды, и нет никакой возможности построить прямую линию. Я туплю в игровое поле, когда надо мной нависает чья-то тень.
Внезапно рядом стоишь ты, в длинном синем пальто и шарфе, держа сумочку и ключи. Я выпрямляюсь на стуле – и жду, когда ты в своей одежде из реального мира, со своими ключами от машины и дома, скажешь мне, что ты уходишь, что с тебя хватит, что ты ставишь на мне крест.
Но ты ничего не говоришь. В помещении становится все жарче и жарче, минуты тянутся и нанизываются друг на друга так же, как у тебя в кабинете, а ты просто стоишь тут, постукивая указательным пальцем по верхней губе и рассматривая игру. Я решаю притвориться, что мне все равно.
Я беру красную фишку, застываю на минуту и готовлюсь бросить ее в центральный ряд, но затем передумываю, увидев, что ход глупый. Я передвигаю фишку и держу ее над другим рядом, прикидывая возможности, и вижу, что это тоже было бы ошибкой. В конце концов я кладу фишку на стол, откидываюсь на спинку стула и прячусь в волосах.
Ты переступаешь с ноги на ногу, и до меня доносится легчайший запах духов. Прохладный, знакомый аромат, вроде лавандовых саше, которые раньше делала бабуля.
Ты берешь красную фишку и бросаешь ее в выемку в крайнем столбце. Из ниоткуда появляется диагональ в четыре фишки – одновременно неожиданная и очевидная.
– Вот так, – говоришь ты. – Кажется, этот ход ты искала.
Ты на мгновение кладешь руку мне на плечо, и я вдруг чувствую ужасную сонливость, как у тебя в кабинете днем. Потом ты уходишь. Я не начинаю другую партию. Я просто сижу в игровой, пока не испаряются последние нотки лаванды.