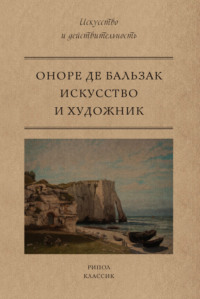Полная версия
Силуэт женщины

Оноре де Бальзак
Силуэт женщины
Honoré de Balzac
ÉTUDE DE FEMME
Перевод с французского Марии Вахтеровой, Надежды Коган, Ольги Моисеенко
Серийное оформление Вадима Пожидаева
Оформление обложки Вадима Пожидаева-мл.
© М. В. Вахтерова (наследники), перевод, 2023
© Н. А. Коган (наследник), перевод, 2023
© О. В. Моисеенко (наследник), перевод, 2023
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023
Издательство Азбука®
* * *Загородный бал
Анри де Бальзаку от брата Оноре
Граф де Фонтэн, глава одной из древних фамилий Пуату, с большим искусством и мужеством служил Бурбонам во время войны вандейцев против республики[1]. Выйдя невредимым из всех опасностей, угрожавших вожакам роялистов в ту бурную эпоху истории, он говаривал шутя:
– Я, видите ли, из тех, кто сложил голову на ступеньках трона!
Шутка эта имела известный смысл в устах человека, который только чудом остался в живых в кровавом сражении у Четырех Дорог. Хотя верный вандеец и был разорен конфискациями имущества, он неизменно отказывался от выгодных должностей, которые предлагал ему император Наполеон. Стойкий в своем поклонении аристократизму, он слепо подчинился его правилам, когда выбирал себе подругу жизни. Несмотря на заигрывания одного разбогатевшего в годы революции выскочки, который дорого бы дал, чтобы с ним породниться, граф женился на девице Кергаруэт, бесприданнице, но происходившей зато из древнейшего бретонского рода.
Реставрация застала господина де Фонтэна обремененным многочисленным семейством. Хотя хлопотать о милостях было не в правилах гордого дворянина, тем не менее он, уступив желанию жены, покинул свое поместье, скромных доходов от которого едва хватало на содержание семьи, и переселился в Париж. С сокрушением наблюдая, как жадно его старые товарищи охотились за государственными должностями и званиями, он собрался было возвратиться в свои владения, как вдруг получил правительственный пакет, в коем весьма известный сановник возвещал о возведении его в чин генерал-майора на основании закона, дозволявшего засчитывать офицерам «католической армии» первые двадцать лет негласного царствования Людовика XVIII[2] за годы действительной службы. Несколько дней спустя без каких-либо ходатайств вандеец получил сверх того ордена Почетного легиона и святого Людовика, полагавшиеся ему по чину. Поколебленный в своем решении этим потоком милостей, которые он приписывал признательности монарха, он счел отныне недостаточным являться по воскресеньям всей семьей в Маршальскую залу Тюильри и во время следования королевской фамилии в часовню всеподданнейше возглашать: «Да здравствует король!» – и просил удостоить его личной аудиенции. Аудиенция была дана в самом непродолжительном времени, но особой торжественностью не отличалась. В королевской приемной толпились старые придворные, чьи напудренные парики, если смотреть на них сверху, напоминали снежную пелену. Граф де Фонтэн встретил там своих прежних сотоварищей, которые приняли его довольно холодно; но принцы крови показались ему обворожительными, после того как самый любезный из его повелителей, который, по предположению графа, мог знать его только по имени, подошел пожать ему руку и назвал его истым вандейцем. Несмотря на такие знаки благоволения, никому из высоких особ не пришло в голову осведомиться, каковы были его потери и какова сумма денег, столь щедро потраченных им на «католическую армию». Он обнаружил – несколько поздно, – что вел войну за свой собственный счет.
К концу вечера он нашел случай ввернуть шутливый намек на жалкое состояние своих финансов, сходное с положением многих других дворян. Его величество изволил добродушно рассмеяться: всякое словцо, отмеченное печатью остроумия, было ему по сердцу; тем не менее он ответил одной из тех королевских шуток, ласковый тон которых много опаснее, нежели гневный выговор. Один из приближенных короля поспешил подойти к сребролюбивому вандейцу и в тонких, учтивых выражениях дал ему понять, что не настал еще час предъявить счет повелителю: на рассмотрении находятся гораздо более давние притязания, которые, бесспорно, войдут в историю революции. Граф счел за благо выйти из именитой толпы, окружавшей августейшее семейство почтительным полукругом; затем, не без труда высвободив свою шпагу, цеплявшуюся за хилые ноги придворных, он пересек двор Тюильри и пешком добрался до наемной кареты, оставленной им на набережной. Старик отличался строптивым нравом дворян старого закала, которые сохранили еще в памяти времена Лиги и Баррикад[3]; усевшись в карету, он принялся жаловаться вслух на перемены, происшедшие при дворе, рискуя навлечь на себя беду.
«В былые времена, – рассуждал он сам с собой, – всякий свободно беседовал с королем о своих личных делах; вельможи могли когда угодно просить милостей и пособий, а нынче не добьешься без неприятностей даже возмещения убытков, понесенных на королевской службе! Черт возьми! Орден святого Людовика и чин генерал-майора, право, не стоят тех трехсот тысяч франков, что я потерял чистоганом ради защиты монархии. Я еще раз поговорю с королем с глазу на глаз, в его собственном кабинете».
Этот случай охладил пыл господина де Фонтэна тем более, что все его хлопоты об аудиенции неизменно оставались без ответа. Он видел к тому же, что при королевском дворе выскочкам Империи нередко доставались те должности, какие при прежнем царствовании приберегались для высшей знати.
– Все пошло прахом, – сказал он однажды утром. – Положительно, король был и остался революционером. Не будь его августейшего брата, который свято блюдет традиции и печется о верных слугах, трудно даже сказать, в какие руки попадет французская корона. Эта проклятая конституционная система – самый худший образ правления и ни при каких обстоятельствах не годится для Франции. Людовик XVIII и господин Беньо все нам напортили в Сент-Уане[4].
Граф, весьма раздосадованный, уже собирался вернуться к себе в поместье, гордо отказавшись от всяких притязаний на возмещение убытков. В это время события двадцатого марта[5] возвестили о новой буре, грозившей поглотить законного короля вместе с его приверженцами. Подобно тем великодушным людям, которые не способны выгнать слугу на улицу в ненастье, господин де Фонтан заложил свои земли, дабы разделить судьбу монархии, терпящей бедствие, сам еще не зная, принесет ли ему эмиграция счастье, которого не принесла его былая преданность; но, убедившись, что спутники по изгнанию пользовались большим благоволением, нежели люди, сражавшиеся некогда с оружием в руках против установления республики, он возымел надежду извлечь больше выгод, выехав за границу, чем оставаясь внутри страны для неусыпных и опасных трудов. Расчеты старого придворного не походили на те пустые измышления, что сулят на бумаге златые горы, а в действительности несут разорение. Короче, по выражению самого остроумного и искусного из наших дипломатов, он стал одним из пятисот верных слуг, разделивших с королевским двором тяжесть изгнания в Генте[6], и одним из пятидесяти тысяч, которые оттуда возвратились. За время этого краткого междуцарствия господин де Фонтэн имел честь выполнять поручения Людовика XVIII и неоднократно доказывал королю свою безупречную благонадежность и искреннюю преданность.
Как-то вечером, когда королю нечего было делать, он припомнил остроту, сказанную господином де Фонтэном в Тюильри. Старый вандеец не упустил столь благоприятного случая и постарался рассказать свою историю достаточно забавно, чтобы король, никогда ничего не забывавший, припомнил ее в нужную минуту. Августейший стилист оценил изящный слог деловых бумаг, выходивших из-под пера скромного дворянина. Благодаря этой маленькой заслуге господин де Фонтэн был отмечен в памяти монарха как один из наиболее преданных слуг престола. По вторичном возвращении короля граф был назначен чрезвычайным эмиссаром и объезжал округа, имея полномочия «вершить суд над зачинщиками мятежа», однако он не злоупотреблял своей грозной властью. Как только эти временные судилища перестали существовать, верховный судья занял кресло в государственном совете, стал депутатом, говорил редко, слушал внимательно и во многом изменил свои мнения. В силу некоторых обстоятельств, оставшихся неизвестными биографам короля, граф настолько вошел в доверие к нему, что однажды насмешливый монарх встретил его следующими словами:
– Друг мой Фонтэн, я не рискнул бы назначить вас главноуправляющим или министром! Ни вы, ни я, будь мы чиновниками, не удержались бы в должности из-за наших убеждений. Конституционный строй имеет то преимущество, что избавляет нас от труда самим увольнять наших государственных секретарей. Что такое наш совет? Гостиница, куда общественное мнение посылает иной раз престранных постояльцев: но как-никак мы всегда сумеем найти местечко для наших верных слуг.
За таким язвительным предисловием последовал приказ о назначении господина Фонтэна управляющим собственными владениями короля. Благодаря восхищенному вниманию, с каким граф выслушивал сарказмы своего царственного друга, имя его появлялось на устах его величества всякий раз, как речь заходила о создании какой-нибудь комиссии, членам которой полагалось солидное вознаграждение. Де Фонтэн был достаточно умен, чтобы молчать о монарших милостях, и умел упрочить их, развлекая короля игривыми рассказами во время тех непринужденных бесед, в которых Людовик XVIII находил такое же удовольствие, как в остроумно составленных письмах, в политических анекдотах и, если позволительно употребить такое выражение, в дипломатических и парламентских сплетнях, расплодившихся в ту пору в изобилии. Общеизвестно, что все мелочи «правительствования» – излюбленное словечко венценосного остряка – бесконечно забавляли его. Благодаря здравому смыслу, уму и ловкости графа де Фонтэна все члены его многочисленного семейства с самого раннего возраста присосались, как шутливо говаривал он своему повелителю, точно шелковичные черви, к листочкам бюджета. Так, старший сын де Фонтэна по милости короля занял несменяемую судейскую должность. Второй сын, до Реставрации простой капитан, сразу же по возвращении из Гента получил полк; затем в 1815 году, когда вследствие беспорядков устав не соблюдался, он попал в королевскую гвардию, откуда перешел в лейб-гвардию, потом перевелся в пехоту, а после битвы при Трокадеро оказался в чине генерал-лейтенанта гвардии. Самый младший, назначенный супрефектом, в скором времени стал докладчиком государственного совета и директором одного из муниципальных учреждений города Парижа, где он надежно укрылся от парламентских бурь. Эти тайные милости, негласные, как и королевская благосклонность к графу, продолжали незаметно сыпаться на семейство де Фонтэнов. Несмотря на то, что отец и все три сына имели достаточно синекур и пользовались значительными казенными доходами, не уступающими доходам главноуправляющего, их политическая карьера ни в ком не возбуждала зависти. В те первые годы зарождения конституционного строя мало кто мог правильно оценить некоторые неприметные статьи государственного бюджета, а этим и пользовались ловкие фавориты, выискивая в них возмещение потерянных церковных доходов. Его сиятельство граф де Фонтэн, еще недавно хвалившийся, что ни разу не заглядывал в конституционную хартию, и столь негодовавший на алчность придворных, не замедлил доказать своему повелителю, что нисколько не хуже его понимает дух и преимущества парламентской системы. Однако, несмотря на прочность служебного положения трех своих сыновей, несмотря на доходы, извлекаемые по совокупности из четырех должностей, господин де Фонтэн был обременен слишком многочисленной семьей, чтобы легко и быстро восстановить утраченное состояние. Три его сына были обеспечены видами на будущее, покровительством и личными талантами; но оставались еще три дочери, и граф боялся злоупотреблять добротой государя. Он решил, что скажет ему пока только об одной из этих девственниц, жаждущих возжечь свой светильник. Король был человеком хорошего вкуса и не мог не завершить своих благодеяний. Брак старшей дочери с генеральным сборщиком налогов, Плана́ де Бодри, решился одним из тех намеков короля, цена которым на первый взгляд невелика, а стоят они миллионов. Однажды вечером, когда государь был в хмуром настроении, он изволил улыбнуться, узнав о существовании второй девицы де Фонтэн, и устроил ее брак с молодым судьей, богатым и способным, правда, буржуазного происхождения, и пожаловал ему титул барона. Но когда через год вандеец заикнулся о третьей дочери, девице Эмилии де Фонтэн, король ответил ему тонким язвительным голоском: «Amicus Plato, sed magis amica Natio»[7].
И несколько дней спустя преподнес «своему другу Фонтэну» довольно безобидное четверостишие, названное им эпиграммой, где подшучивал насчет его трех дочерей, так удачно произведенных на свет в виде троицы. Если верить хронике, король построил свой каламбур на понятии божественного триединства.
– Не соизволит ли государь изменить свою эпиграмму на эпиталаму?[8] – сказал граф, пытаясь обернуть этот выпад в свою пользу.
– Хоть я и вижу тут рифму, но не вижу смысла, – резко отпарировал король, которому пришлась не по вкусу даже столь невинная насмешка над его стихами.
С того дня его обращение с господином де Фонтэном стало менее благосклонным. Государи любят противоречие меньше, чем мы думаем.
Как почти все дети, младшие в семье, Эмилия де Фонтэн была всеобщей любимицей, и домашние носили ее на руках. И охлаждение монарха огорчало графа тем более, что выдать замуж эту балованную дочь было необычайно трудной задачей. Чтобы уяснить себе, как велики были препятствия, необходимо проникнуть внутрь великолепного особняка, который королевский управляющий снимал на средства казны, Эмилия провела детство в родовом поместье де Фонтэнов и на приволье наслаждалась благами, достаточными для счастья ранней юности; малейшее ее желание становилось законом для ее сестер, братьев, матери и даже для самого отца. Все родные были от нее без ума. Она достигла сознательного возраста как раз в тот период, когда ее семья утопала в милостях и довольстве, и жизнь продолжала ей улыбаться. Роскошь Парижа казалась ей столь же естественной, как изобилие цветов и плодов, как пышность природы в поместье, где прошло ее отрочество. Девочкой она не встречала отпора своим сумасбродным желаниям, а на шестнадцатом году, закружившись в вихре света, уже умела заставить всех себе повиноваться. Привыкая все более и более к милостям судьбы, она уже не могла обходиться без изысканных туалетов, без изящества раззолоченных гостиных и экипажей, без поклонения и лести, искренней или лицемерной, без развлечений и суеты двора. Подобно большинству избалованных детей, она изводила тех, кто любил ее, и приберегала свои чары для равнодушных. Недостатки ее с годами только увеличились, и родителям вскоре пришлось пожинать горькие плоды столь пагубного воспитания. В девятнадцать лет Эмилия де Фонтэн еще не пожелала сделать выбор среди многочисленных молодых людей, которых предусмотрительно собирал ее отец на приемах. Несмотря на свою молодость, она пользовалась в свете полной свободой суждений, насколько это доступно для девушки. Эмилия не имела друзей, как не имеют их короли, и встречала повсюду лишь поклонение, против чего вряд ли устояла бы и лучшая натура, чем она. Ни один мужчина, будь то даже старик, не имел силы противиться этой девушке, одного взгляда ее было достаточно, чтобы зажечь любовный пламень в самом холодном сердце. Воспитанная более заботливо, нежели ее сестры, она недурно рисовала, болтала по-итальянски и бесподобно играла на фортепьяно; голос ее, усовершенствованный лучшими преподавателями, отличался приятным тембром, придававшим ее пению неотразимое очарование. При встрече с Эмилией, остроумной и умевшей блеснуть своей начитанностью, невольно вспоминалось изречение Маскариля[9], будто знатные люди рождаются на свет, уже зная все наперед. Она рассуждала с одинаковой легкостью об итальянской и фламандской живописи, о Средних веках и Возрождении, критиковала свысока старые и новые книги и с жестоким, но изящным остроумием умела подчеркнуть недостатки любого произведения искусства. Толпа обожателей жадно ловила самые пустые ее фразы, как турки ловят фетвы султана. Так ослепляла она людей поверхностных; что же касается людей серьезных, то врожденное чутье помогало ей угадать их с первого взгляда; тогда она пускала в ход все свое кокетство и благодаря своим чарам умела обмануть их проницательность. Под соблазнительной внешностью она скрывала беспечное сердце, непомерную гордость от сознания своего высокого происхождения и красоты и присущую многим девушкам уверенность, что никто на свете не способен оценить совершенства ее души. В ожидании страстного чувства, рано или поздно испепеляющего сердце всякой женщины, она тратила свой юный пыл на неумеренную любовь к аристократии и выказывала глубочайшее презрение к людям незнатным. Дерзкая и высокомерная с новоиспеченными дворянами, она прилагала все усилия, чтобы ее семья ни в чем не уступала самым блистательным домам Сен-Жерменского предместья.
Ее образ мыслей не мог ускользнуть от проницательного взора господина де Фонтэна; ему и самому со времени замужества старших дочерей не раз доставалось от сарказмов и насмешек Эмилии. Люди последовательные могут удивиться, как это старый вандеец выдал старшую дочь за генерального сборщика налогов, который хотя и владел несколькими родовыми поместьями, но не имел при своей фамилии дворянской частицы «де», доставившей столько защитников трону, а вторую дочь – за судью, который стал бароном слишком недавно и не мог заставить свет забыть, что отец его торговал дровами. Столь значительная перемена во взглядах высокородного графа, наступившая уже на седьмом десятке, когда люди редко расстаются со своими убеждениями, объяснялась не только пагубным влиянием современного Вавилона, где все провинциалы в конце концов обтесываются; нет, своими новыми политическими взглядами граф де Фонтэн был обязан главным образом советам и дружбе короля. Августейшему философу доставляло удовольствие постепенно обращать вандейца в новую веру, которой требовал весь ход событий девятнадцатого века и обновление монархии. Людовик XVIII задался целью смешать политические партии, подобно тому как Наполеон перемешал и людей и понятия. Законный король, пожалуй, не менее дальновидный, чем его соперник, поступал как раз наоборот: последний из Бурбонов столь же старался угождать третьему сословию и людям Империи, в ущерб духовенству, сколь ревностно первый из Наполеонов усердствовал, чтобы привлечь на свою сторону высшую знать и ублаготворить церковников. Будучи поверенным королевских замыслов, член государственного совета сделался незаметно для себя одним из наиболее влиятельных и ловких деятелей умеренной партии, всячески стремившейся во имя интересов нации к слиянию противоречивых убеждений. Он проповедовал высокие принципы конституционного строя и всеми силами помогал своему повелителю управлять политическими рычагами, что позволяло благополучно вести корабль Франции среди бурь и треволнений. Быть может, господин де Фонтэн льстил себя надеждой добиться звания пэра в результате одного из парламентских переворотов, неожиданные последствия которых поражали даже самых опытных политиков. Он не признавал во Франции иной знати, кроме пэров, так как, по его глубочайшему убеждению, только семьи пэров пользовались настоящими привилегиями.
– Дворянство без привилегий, – говорил он, – то же, что рукоятка без топора.
Держась в стороне как от партии Лафайета, так и от партии Лабурдонне[10], он ревностно добивался всеобщего примирения, что, по его мнению, должно было открыть перед Францией новую, блестящую эру. Он старался убедить тех, кто посещал его салон, и тех, у кого бывал сам, что военная и чиновничья карьера в наши дни больших возможностей не представляет. Он советовал матерям избирать для своих сыновей независимые профессии, готовить их к промышленной или финансовой деятельности и давал понять, что военные чины и высшие государственные должности, в соответствии с духом конституции, будут распределяться в конце концов между младшими отпрысками именитых родов пэров. По его словам, буржуазия отвоевала себе значительную роль в государственном управлении, участвуя в выборной палате, получая судебные и финансовые должности, что, как он говорил, всегда было и будет достоянием тузов третьего сословия. Новые идеи главы семейства де Фонтэнов, побудившие его устроить выгодные браки двух старших дочерей, встретили сильный отпор со стороны его домашних. Графиня де Фонтэн осталась верной старым традициям, да и как могла отречься от них женщина, происходившая по материнской линии от Роганов? Она противилась некоторое время замужеству двух старших дочерей, сулившему им счастье и богатство, однако в конце концов сдалась на тайные доводы мужа во время тех интимных вечерних совещаний, когда головы супругов покоятся рядом на одной подушке. Господин де Фонтэн хладнокровно доказал жене путем самых точных расчетов, что жизнь в Париже, требования света, блеск их дома, вознаграждавший их за лишения, мужественно перенесенные в глуши Вандеи, расходы на сыновей поглощают большую часть их бюджета. Поэтому надо ценить как дар небесный представившуюся возможность так выгодно пристроить дочерей: ведь в скором времени они будут пользоваться рентой в шестьдесят-восемьдесят, а то и в сто тысяч франков. Для бесприданниц такие выгодные партии встречаются не каждый день. Наконец пора подумать и о сбережениях, пора упрочить состояние де Фонтэнов и восстановить их прежние земельные владения. Графиня сдалась на столь убедительные доводы, как поступила бы на ее месте всякая мать, пожалуй, еще с большей охотой, но объявила, что пусть по крайней мере ее любимица Эмилия осуществит в своем браке те горделивые мечтания, которые родители имели неосторожность взлелеять в этой юной душе.
Таким образом, события, которые должны были бы вызвать радость в семье, посеяли в ней семена легкого раздора. Генеральный сборщик налогов и молодой судья стали жертвой холодного, церемонного этикета, который сумели установить в доме графиня и ее дочь Эмилия. Вскоре служение этикету открыло новое поле деятельности для двух домашних тиранок. Генерал-лейтенант женился на девице Монжено, дочери богатого банкира; председатель суда имел благоразумие сочетаться браком с барышней, отец которой, обладатель двух или трех миллионов, нажился на соляной торговле; наконец, и младший сын показал себя верным этим расчетливым соображениям, взяв в жены девицу Гростет, единственную наследницу сборщика налогов города Буржа. Трем невесткам и двум зятьям казалось настолько привлекательным вращаться в высших политических сферах и в салонах Сен-Жерменского предместья, что все они сообща образовали как бы небольшой двор вокруг высокомерной Эмилии. Союз этот, основанный на личной корысти и тщеславии, был, однако, недостаточно прочным, и юная повелительница вызывала подчас возмущение в своем маленьком королевстве. Происходили сцены, правда не нарушавшие светских приличий, но позволявшие членам этой влиятельной семьи проявлять свойственное им остроумие; едкие насмешки и сарказмы хоть и не наносили чувствительного ущерба показной дружбе в кругу семьи, но порою не щадили никого. Так, например, жена генерал-лейтенанта, став баронессой, считала себя ничуть не менее знатной, чем какая-то Кергаруэт, и полагала, что кругленькая сумма в сто тысяч франков ренты дает ей право быть столь же дерзкой, как и ее золовка Эмилия; этой последней она частенько насмешливо желала счастливого брака, сообщая как бы вскользь, что дочь такого-то пэра Франции недавно вышла замуж за господина такого-то, без всякого титула. Жене виконта де Фонтэн доставляло великое удовольствие затмевать Эмилию изысканностью и роскошью своих туалетов, своей мебели и экипажей. Иронический вид, с каким невестки и оба зятя выслушивали иногда высокомерные притязания мадемуазель де Фонтэн, приводил ее в бешенство, и нередко гнев ее находил выход в граде язвительных острот. Когда глава семьи заметил некоторое охлаждение, наступившее в негласной и изменчивой дружбе к нему монарха, он сильно встревожился, потому что его любимица-дочь, раззадоренная насмешками и поддразниванием сестер, никогда еще не метила так высоко.
И вот как раз в то время, когда эта маленькая семейная распря приняла угрожающие размеры, король, как будто начавший снова благоволить к господину де Фонтэну, был поражен недугом, от которого ему суждено было погибнуть. Тонкий политик, так искусно правивший своим кораблем среди бурь, в конце концов потерпел крушение. Граф де Фонтэн, не зная еще, останется ли он в милости, приложил величайшие старания, чтобы собрать вокруг своей младшей дочери самых блестящих кавалеров. Те, кому приходилось разрешать тяжкую задачу выдать замуж гордую и своенравную дочку, вероятно, поймут затруднения бедного вандейца. Завершив это предприятие и угодив любимой дочери, граф достойным образом увенчал бы свою карьеру, начатую им в Париже десять лет назад. По тому, как ловко его семья захватывала оклады во всевозможных ведомствах, ее можно было уподобить австрийскому царствующему дому, грозящему заполонить всю Европу своими родственными связями. И старый вандеец, для которого счастье дочери было главной сердечной заботой, не щадя сил, подыскивал ей все новых женихов; но трудно было удержаться от улыбки, когда дерзкая девушка выносила приговоры и разбирала по косточкам своих обожателей. Можно было подумать, что Эмилия достаточно богата и прекрасна, чтобы по примеру принцессы из «Тысячи и одного дня»[11] иметь право выбрать любого принца; возражения ее были одно забавнее другого: у этого слишком жирные икры и кривые колени, тот близорук, третий носит пошлую фамилию Дюран, четвертый хромает, – и почти все казались ей слишком толстыми. Отвергнув двух или трех новых поклонников, Эмилия становилась еще живее, очаровательнее, веселее, чем когда-либо, кружилась в вихре зимних праздников, разъезжала по балам, где ее зоркий взгляд внимательно изучал входящих в моду знаменитостей и где потехи ради она пленяла сердца, но всегда отвечала отказом искателям ее руки.