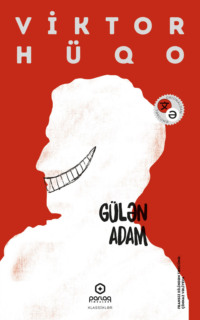Полная версия
Человек, который смеется
IV
Вопросы
Что же это была за шайка, которая, бросив ребенка, спасалась бегством?
Быть может, компрачикосы?
Выше мы обстоятельно изложили, какие меры принимались Вильгельмом III с одобрения парламента против преступников обоего пола, именуемых компрачикосами, компрапекеньосами и чейласами.
Некоторые законодательные акты вызывают настоящую панику. Закон, направленный против компрачикосов, обратил в повальное бегство не только их самих, но и всякого рода бродяг. Они наперебой спешили скрыться, покинув берега Англии. Большинство компрачикосов вернулись в Испанию. Среди них, как мы уже упоминали, было много басков.
Закон, взявший под свою защиту детей, имел на первых порах довольно странные последствия: сразу же возросло число брошенных детей.
Немедленно после обнародования этого уголовного статута появилось много найденышей, то есть покинутых детей. Дело объяснялось весьма просто. Всякая бродячая шайка, в которой был ребенок, навлекала на себя подозрения, уже самый факт наличия ребенка становился уликой против нее. «Это, по всей вероятности, компрачикосы» – такова была первая мысль, приходившая в голову шерифу, провосту, констеблю. Затем начинались аресты и допросы. Обыкновенные нищие, которых нужда заставляла скитаться и просить подаяния, дрожали от страха, что их могут принять за компрачикосов, хотя они не имели с ними ничего общего; но бедняк никогда не огражден от возможных ошибок правосудия. Кроме того, бродячие семьи живут в постоянной тревоге. Компрачикосов обвиняли в том, что они промышляют покупкой и продажей чужих детей. Но нищета и сопряженные с нею бедствия создают иногда условия, при которых отцу и матери бывает трудно доказать, что ребенок, находящийся при них, – их родное дитя. Откуда у вас этот ребенок? Как доказать, что он – твой? Иметь при себе ребенка становилось опасно – от него старались отделаться. Бежать без него было гораздо легче. Взвесив все, отец и мать оставляли ребенка в лесу или на берегу моря, а то и просто бросали его в колодец.
В водоемах находили утопленных детей.
Прибавим, что компрачикосов, по примеру Англии, стали преследовать по всей Европе. Первый толчок к гонению на них был дан. Во всяком деле главное – почин. Теперь полиция всех стран стала состязаться в погоне за компрачикосами; испанские альгвасилы выслеживали их с неменьшим рвением, чем английские констебли. Всего двадцать три года назад можно было прочитать на камне у ворот Отеро неудобопереводимую надпись – закон в выборе выражений не стесняется, – из которой явствовало, что в отношении кары между покупателями и похитителями детей проводилась резкая грань. Вот эта надпись на несколько варварском кастильском наречии: Aquí quedan las orejas de los comprachicos, у las bolsas de los robaniños, mientras que se van ellos al trabajo de mar.
Мы видим, что отрезание ушей и прочее отнюдь не избавляло от ссылки на галеры. Такие меры вызывали паническое бегство всякого рода бродяг. Они удирали в испуге и добирались до места назначения, дрожа от страха. На всем побережье Европы прибывающих беглецов выслеживала полиция. Ни одна шайка не желала везти с собой ребенка, потому что высадиться с ним было делом опасным.
Гораздо легче было сбыть ребенка с рук.
Кем же был покинут ребенок, которого мы только что видели на сумрачном пустынном берегу Портленда?
Судя по всему, компрачикосами.
V
Дерево, изобретенное людьми
Было, вероятно, около семи часов вечера. Ветер стихал – признак того, что он скоро должен был снова усилиться. Ребенок находился на краю плоскогорья южной оконечности Портленда.
Портленд – полуостров. Но ребенок не знал, что такое полуостров, и даже не слыхал слова «Портленд». Он знал одно: что можно идти до тех пор, пока не свалишься. Представление об окружающем служит нам вожатым; у ребенка не было этого представления. Они привели его сюда и бросили здесь. Они и здесь – в этих двух загадочных словах заключалась вся его судьба: они – это был весь человеческий род, здесь – вся Вселенная. Здесь, в этом мире, у него не было никакой точки опоры, кроме клочка земли, по которому ступали теперь его босые ноги, – земли каменистой и холодной. Что ожидало его в огромном сумрачном мире, открытом всем ветрам? Ничто.
Он шел навстречу этому Ничто.
Вокруг него была беспредельная пустыня.
Он пересек по диагонали первую площадку, затем вторую, третью… В конце каждой площадки ребенок наталкивался на обрыв; спуск бывал иногда очень крутым, но всегда коротким. Высокие голые плато оконечности Портленда похожи на огромные плиты, наложенные одна на другую, подобно ступеням лестницы; с южной стороны край каждой плиты как бы уходит под верхнее плато, а с северной – он нависает над нижним. Эти уступы ребенок преодолевал без труда. Время от времени он замедлял шаг и, казалось, советовался сам с собою. Становилось все темнее, пространство, на котором можно было что-то различить, все сокращалось, и теперь ребенок видел не дальше чем на несколько шагов.
Вдруг он остановился, прислушался, еле заметно с удовлетворением кивнул головой, быстро повернулся и направился к небольшой возвышенности, смутно вырисовывавшейся справа, в том конце равнины, который примыкал к скале. На этой возвышенности виднелись смутные очертания чего-то, казавшегося в тумане деревом. Оттуда доносился шум, не похожий ни на шум ветра, ни на шум моря. Это не был также и крик животного. Ребенок решил, что там кто-то есть.
Сделав несколько шагов, он очутился у подножия холма.
Там действительно кто-то был.
То, что издали смутно виднелось на вершине холма, теперь вырисовывалось вполне отчетливо.
Это было нечто, похожее на огромную руку, торчавшую прямо из земли. Кисть руки была согнута в горизонтальном направлении, вытянутый вперед указательный палец подпирался снизу большим. Мнимая рука с указательным и большим пальцем приняла на фоне неба очертания угломера. От того места, где соединялись эти странные пальцы, свешивалось что-то вроде веревки, на которой болтался черный бесформенный предмет. Веревка, раскачиваемая ветром, издавала звук, напоминавший звон цепей.
Этот звук и слышал ребенок.
Вблизи веревка оказалась цепью, как и можно было предположить по ее лязгу, – корабельной цепью из крупных стальных звеньев.
В силу таинственного закона слияния впечатлений, который во всей природе как бы наслаивает кажущееся на действительное, все здесь – место, время, туман, мрачное море, смутные образы, возникавшие на самом краю горизонта, – сочеталось с этим силуэтом и сообщало ему чудовищные размеры.
Бесформенный предмет, висевший на цепи, имел сходство с футляром. Он был спеленут, как младенец, но по длине равнялся взрослому человеку. В верхней части его виднелось что-то круглое, вокруг чего обвивался конец цепи. Внизу футляр был разодран, и из него торчали лишенные мяса кости.
Легкий ветерок колыхал цепь, и то, что висело на ней, тихо покачивалось из стороны в сторону. Эта безжизненная масса подчинялась малейшим колебаниям воздуха; в ней было нечто, внушавшее панический страх; ужас, обычно изменяющий действительные пропорции предмета, скрадывал его истинные размеры, сохраняя лишь его контуры; это был сгусток мрака, принявший очертания; тьма была кругом, тьма была внутри; она вобрала в себя нараставшую вокруг нее могильную жуть; сумерки, восходы луны, исчезновения созвездий за утесами, сдвиги воздушных пространств, тучи, роза ветров – все в конце концов вошло в состав этого призрака; обрубок, висевший в воздухе, своим безличием походил на морскую даль и на небо, а мрак поглотил последние черты того, что было некогда человеком.
Это было нечто, ставшее ничем.
Превратиться в останки – для обозначения этого состояния в человеческом языке нет слов. Не жить и вместе с тем продолжать существовать, находиться в бездне и в то же время вне ее, умереть и не быть поглощенным смертью, – во всем этом, несмотря на несомненную реальность, есть что-то неестественное и потому невыразимое. Это существо – можно ли было назвать его существом? – этот черный призрак был останками, и притом останками ужасающими. Останками чего? Прежде всего природы, а затем общества. Это было ничто и все.
Он находился здесь во власти безжалостных стихий. Глубокое забвение пустыни окружало его. Он был оставлен на произвол неведомого. Он был беззащитен против мрака, который делал с ним все, что хотел. Он должен был терпеть все. И он терпел. Ураганы обрушивались на него. Мрачная задача, выполняемая ветрами!
Призрак был добычей всех разрушительных сил. Его обрекли на чудовищную участь – разлагаться под открытым небом. Для него не существовало закона погребения. Он подвергся уничтожению, но не обрел вечного покоя. Летом он покрывался слоем пыли, осенью обрастал корою грязи. Смерть должна быть прикрыта покровом, могила – стыдливостью. Здесь не было стыдливости, не было покрова. Гниение, цинично открытое взору каждого. Есть что-то бесстыдное в зрелище смерти, орудующей на глазах у всех. Она наносит оскорбление безмятежному спокойствию небытия, работая вне своей лаборатории – вне могилы.
Труп был выпотрошен. Выпотрошить останки – какой страшный приговор! В его костях уже не было мозга, в его животе не было внутренностей, в его гортани не было голоса. Труп – это карман, который смерть выворачивает и опустошает. Если у него и было когда-то свое «я», где оно теперь? Быть может, еще здесь, – страшно подумать. Что-то, витающее вокруг чего-то, прикованного к цепи. Можно ли представить себе во мраке образ более скорбный?
На земле существуют явления, открывающие путь к неведомому; мысль ищет выхода в этом направлении, и сюда же устремляется гипотеза. Догадка имеет свое compelle intrare[35]. В иных местах и перед иными предметами мы невольно останавливаемся в раздумье и пытаемся проникнуть в их сущность. Иногда мы наталкиваемся на полуоткрытую неосвещенную дверь в неведомый мир. Кого не навел бы на размышления вид этого мертвеца?
Огромная сила распада бесшумно подтачивала труп. В нем была кровь – ее выпили, на нем была кожа – ее изглодали, было мясо – его растащили по кускам. Ничто не прошло мимо, не взяв у него чего-нибудь. Декабрь позаимствовал у него холод тела, полночь – ужас, железо – ржавчину, чума – миазмы, цветок – запахи. Его медленное разложение было пошлиной, которую труп платил шквалу, дождю, росе, пресмыкающимся, птицам. Все темные руки ночи обшарили этого мертвеца.
Это был странный обитатель ночи. Он находился на холме среди равнины, и в то же время его там не было. Он был доступен осязанию и вместе с тем не существовал. Он был тенью, дополнявшей ночную тьму. Когда угасал дневной свет, он зловеще сливался со всем окружающим в беспредельном безмолвии ночи. Одно его присутствие здесь усиливало мрачную ярость бури и спокойствие звезд. Все то невыразимое, что есть в пустыне, было, как в фокусе, сосредоточено в нем. Жертва неведомого рока, он усугублял собою угрюмое молчание ночи. Его тайна смутно отражала в себе все, что есть загадочного в мире.
Близ него чувствовалось как бы убывание жизни, уходившей куда-то в бездну. Все в окружавшем его пространстве утрачивало спокойствие и уверенность в себе. Трепет кустарников и трав, безнадежная грусть, мучительная тревога, которая, казалось, находила свое оправдание, – все трагически сближало пейзаж с черной фигурой, висевшей на цепи. Присутствие призрака в поле зрения отягчает одиночество.
Он был лишь призраком. Колеблемый никогда не утихавшими ветрами, он был неумолим. Вечная его дрожь вселяла ужас. Он казался – страшно вымолвить – средоточием окружавшего пространства и служил опорой чему-то необъятному. Чему? Как знать? Быть может, той неясно сознаваемой и оскорбляемой нами справедливости, которая выше нашего правосудия. В его пребывании вне могилы была месть людей и его собственная месть. В этой сумрачной пустыне он выступал как грозный свидетель. Он был зловещей формой материи, ибо материя, перед которой дрожат люди, – это оболочка отлетевшей души. Вызывает в нас тревогу та мертвая материя, которая была некогда одухотворена. Он обличал закон земной перед лицом закона небесного. Повешенный здесь людьми, он ожидал Бога. Над ним, принимая расплывчато-извилистые очертания туч и волн, реяли исполинские видения мрака.
За призраком стояла какая-то непроницаемая, роковая преграда. Мертвеца окружала беспредельность, не оживляемая ничем: ни деревом, ни кровлей, ни прохожим. Когда перед нашим взором смутно возникают тайны бытия – небо, бездна, жизнь, могила, вечность, – все сущее воспринимается нами как нечто недоступное, запретное, огражденное от нас стеной. Когда разверзается бесконечность, все двери в мир оказываются запертыми.
VI
Битва смерти с ночью
Ребенок стоял перед непонятным силуэтом, безмолвно, удивленно, пристально глядя на него.
Для взрослого человека это была бы виселица, для ребенка это было привидение. Там, где взрослый увидел бы труп, ребенок видел призрак.
Он ничего не понимал.
Бездна таит в себе все разновидности приманок; одна из них находилась на вершине этого холма. Ребенок сделал шаг-другой. Он стал взбираться выше, испытывая желание спуститься, и приблизился, желая отступить назад.
Весь дрожа, он в то же время решительно подошел к виселице, чтоб получше рассмотреть призрак. Очутившись под виселицей, он поднял голову и стал внимательно разглядывать его.
Призрак был покрыт смолою и местами блестел. Ребенок различал черты лица. Оно тоже было обмазано смолою, и эта маска, казавшаяся липкой и вязкой, четко выступала в сумраке ночи. Ребенок видел дыру на том месте, где прежде был рот, дыру на месте носа и две черные ямы на месте глаз. Тело было как бы запеленато в грубый холст, пропитанный нефтью. Ткань истлела и расползлась. В одном месте обнажилось колено. В другом – видны были ребра. Одни части тела были еще трупом, другие – уже стали скелетом. Кожа была землистого цвета, ползавшие по лицу слизняки оставили на нем тусклые серебристые полосы. Под холстом, прилипшим к костям, обрисовывались выпуклости, как под платьем на статуе. Череп треснул и, распавшись надвое, напоминал собою гнилой плод. Зубы остались целы и скалились в подобии смеха. В зияющей дыре рта, казалось, замер последний крик. На щеках сохранилось несколько волосков бороды. Голова, наклоненная вниз, как будто к чему-то прислушивалась.
Труп, по-видимому, недавно подновляли. Лицо было заново вымазано смолой, так же как и выступавшие из прорех колено и ребра. Внизу из-под холста торчали обглоданные ступни. Прямо под ними, в траве, видны были два башмака, утратившие форму от снега и дождя. Они свалились с ног мертвеца.
Босой ребенок смотрел на эти башмаки.
Ветер то становился еще злее, то внезапно спадал, как будто собирался с силами, чтобы разразиться бурей; на несколько минут он даже совсем стих. Труп уже не качался. Цепь висела неподвижно, как шнурок отвеса с гирькой на конце.
Как у всякого существа, только что вступившего в жизнь, но отдающего себе отчет в своей тяжкой участи, у ребенка, несомненно, начиналось пробуждение мучительных мыслей – мыслей еще неясных, детских, но уже пробивавших себе путь в его голове, подобно птичьему клюву, долбящему скорлупу яйца; но все, чем в эту минуту было полно его младенческое сознание, повергало его лишь в оцепенение. Как излишек масла гасит огонь, так избыток ощущений гасит мысль. Взрослый задал бы себе тысячу вопросов, ребенок только смотрел.
Обмазанное смолой лицо мертвеца казалось мокрым. Капли смолы, застывшие в пустых глазницах, были похожи на слезы. Однако смола значительно замедляла разложение трупа: разрушительная работа смерти была насколько возможно задержана. То, что ребенок видел перед собой, было предметом, о котором заботились. По-видимому, человек этот представлял какую-то ценность. Его не захотели оставить в живых, но старались сохранить мертвым. Виселица была старая, вся в червоточинах, но прочная и стояла здесь уже давно.
В Англии с незапамятных времен существовал обычай смолить тела контрабандистов. Их вешали на берегу моря, обмазывали смолой и оставляли висеть; преступника, в назидание прочим, следует подвергать казни у всех на виду, и, если его просмолить, он на долгие годы будет служить острасткой. Трупы смолили из чувства человеколюбия, полагая, что благодаря этому можно будет реже обновлять повешенных. Виселицы расставляли на берегу на определенном расстоянии одна от другой, как ставят в наше время фонари. Повешенный заменял собою фонарь. Он по-своему светил своим товарищам-контрабандистам. Контрабандисты издали, еще находясь в море, замечали виселицы. Вот одна – первое предостережение, а там другая – второе предостережение. Это нисколько не мешало им заниматься контрабандой, но таков был порядок. Этот обычай продержался в Англии до начала нашего столетия. Еще в 1822 году перед Дуврским замком можно было видеть трех повешенных, облитых смолой. Впрочем, такой способ сохранения трупа преступника применялся не к одним только контрабандистам. Англия пользовалась им также по отношению к ворам, поджигателям и убийцам. Джон Пейнтер, совершивший поджог морских складов в Портсмуте, был в 1776 году повешен и засмолен. Аббат Койе, называющий Джона Пейнтера Жаном Живописцем, увидел его вторично в 1777 году. Джон Пейнтер висел на цепи над развалинами сожженных им складов, и время от времени его снова покрывали смолой. Этот труп провисел – можно бы сказать, прожил – почти четырнадцать лет. Еще в 1788 году он служил правосудию. Однако в 1790 году его пришлось заменить новым. Египтяне чтили мумии своих фараонов; оказывается, мумия простого смертного также может быть полезной.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Урсус – медведь, Гомо – человек (лат.).
2
Жорж Луи Леклерк, граф де Бюффон (1707–1788) – французский натуралист, математик, естествоиспытатель и писатель XVIII века.
3
Нерон (37–68 н. э.) – римский император с 54 года.
Плиний Старший (между 22 и 24–79 н. э.) – древнеримский писатель, автор «Естественной истории».
4
Гиппократ (ок. 460 – ок. 370 до н. э.) – древнегреческий целитель, врач и философ.
Пиндар (522/518–448/438 до н. э.) – один из известнейших поэтов Древней Греции.
5
Николя Рапен (1535–1608) – французский поэт.
Марк Иероним Вида (ок. 1490–1566) – итальянский поэт, епископ города Альбы.
6
Салернская врачебная школа – возникшая в IX веке в итальянском городе Салерно медицинская школа.
7
Гален (129 – ок. 216) – древнеримский медик и философ греческого происхождения.
Джероламо Кардано (1501–1576) – итальянский математик, философ и врач.
8
Джордж Джеффрис (1645–1689) – английский государственный деятель, судья.
9
Это значит: остальных дочерей обеспечивают по мере возможности. (Примечание Урсуса рядом, на стене.)
10
Здесь: мольба (лат.). Так называлась жалоба королю.
11
Акротерий – в классической архитектуре название элементов, венчающих здание, расположенных на стене выше карниза.
12
«Позор тому, кто подумает дурное» (фр.).
13
«Доблесть сильнее тарана» (лат.).
14
Карибы (караибы) – группа индейских народов в Южной Америке.
15
Тюрлюпен, Трибуле – прозвища двух французских шутов, бывших на службе у королей Франции.
16
Мари де Рабютен-Шанталь, маркиза де Севинье (1626–1696) – французская писательница. Ее знаменитые «Письма» рисуют подробную и достоверную картину светской жизни во Франции XVII века.
17
Венсан де Поль (Святой Викентий де Поль; 1581–1660) – католический святой, основатель многих конгрегаций, семинариев и школ.
18
Анри де ла Тур д’Овернь, виконт де Тюренн (1611–1675) – французский полководец, один из выдающихся военных тактиков и стратегов своего времени.
19
Cock – петух (англ.).
20
Жак Бенинь Боссюэ (1627–1704) – французский проповедник и богослов.
21
Джеймс Скотт, герцог Монмут (1649–1685) – внебрачный сын короля Англии Карла II. После смерти отца (1685) попытался захватить престол, но потерпел поражение и был казнен.
22
Уильям Пенн (1644–1718) – один из основателей первой столицы США Филадельфии. Также основал колонию, получившую в его честь название Пенсильвания («Лесная Страна Пенна»).
23
Орудием власти (лат.).
24
Намек на загадочного узника времен Людовика XIV, носившего якобы железную маску и оставшегося неизвестным. Упоминается во многих произведениях, в частности в романах Александра Дюма.
25
Смотри у меня, детка, не то я позову компрачикосов! (исп.)
26
Бродячий человек страшнее бродячего зверя (лат.).
27
Грегорио Аллегри (1582–1652) – итальянский композитор и священник. Упоминается самое знаменитое его сочинение на текст пятидесятого псалма («Miserere mei, Deus» – «Помилуй меня, Боже»).
28
Не приемлющих присяги (англ.).
29
Непобедимая армада – военный испанский флот из приблизительно ста тридцати кораблей, собранный Испанией для вторжения в Англию во время Англо-испанской войны (1585–1604).
30
Изобретение Джероламо Кардано (см. сноску 7), масляная лампа с автоматической подачей масла.
31
Святой Крепин – покровитель сапожников.
32
Латинские названия разных видов акул.
33
Панагия – небольшая икона с изображением Богоматери. В древние времена так называли всякую емкость для ношения святыни.
Кантабры – племена, населявшие северное побережье Испании.
34
Идем (исп.).
35
Заставь войти (лат.).