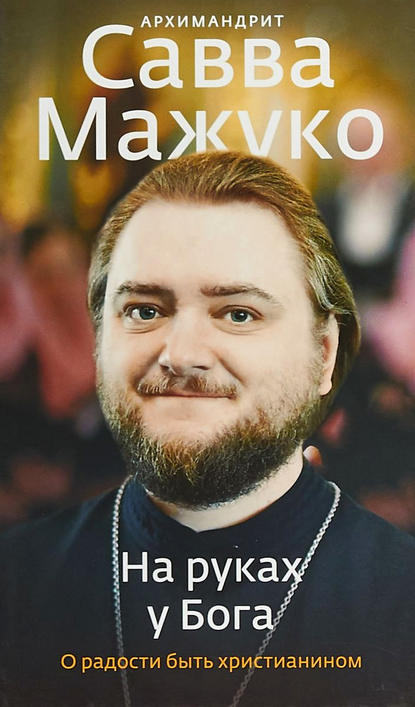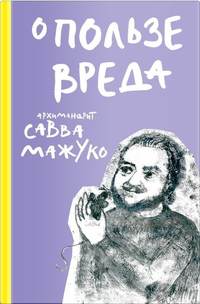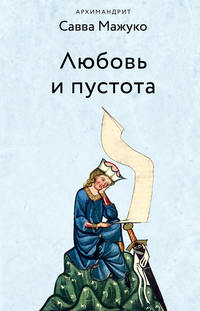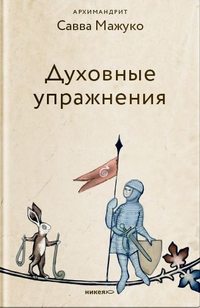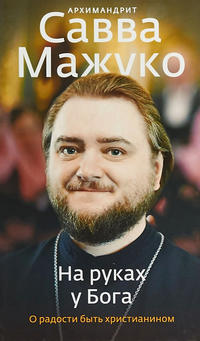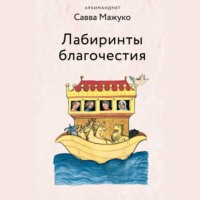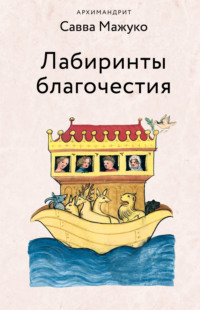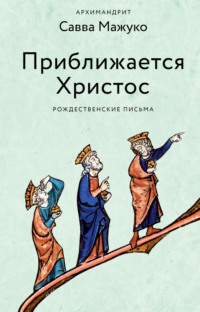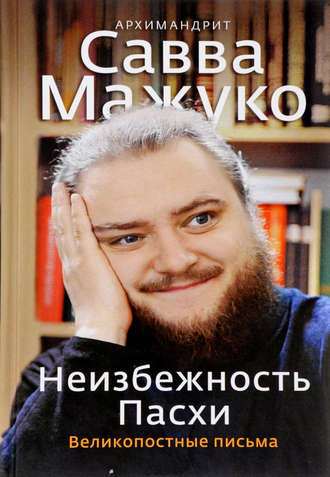
Полная версия
Неизбежность Пасхи. Великопостные письма
И отец знает, что вернула ему сына не любовь, не раскаяние, а нужда. И он все равно рад, и радости этой не скрывает. Он не пускается в укоры, выяснение мотивов и отношений. Отец – сама неудержимая радость! Читая эту притчу, я с большим трудом отвожу взгляд – чтобы не увидеть его танцующим. Отец ничего не требует. Не справляется о судьбе наследства и без слов отдает найденышу все лучшее, что осталось в доме.
Притча о блудном сыне – пасхальный текст. Это важно помнить, когда мы читаем его в преддверии Великого поста, времени созерцания Пасхи Креста и Воскресения. В центре притчи вовсе не история беспутного наследника. В центре притчи – пир. Пасха – это вхождение в праздник Победителя смерти, Пасха – трапеза Царства. Пасха – точка Омега, в которую стекаются ручьи и реки всех наших жизней.
Трагичен путь младшего брата. Но меня всегда ужасал образ старшего брата, который сознательно отказывается войти на праздничный пир: Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его (Лк. 15: 28). Отец выходил на дорогу, выглядывая младшего сына, который очень хорошо знал, что он не смеет даже надеяться войти на такой праздник. И отец снова зовет, ищет и убеждает войти и разделить радость. Теперь он ищет старшего сына, который тоже потерялся, предпочел остаться в темноте, в одиночестве, в обиде, только бы не видеть рядом с собой того, кого он даже братом не хочет назвать, «его сына». Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и все мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил; пропадал и нашелся (Лк. 15: 31–32).
В преддверии поста и Пасхи эта притча звучит в унисон с притчей о мытаре и фарисее. Оба сюжета – о Пасхе, о той последней и неотменимой трапезе, на которую Господь позвал каждого. Пасха – для всех. Трапеза Царствия – для всех, а не только для избранных. Там, в Царстве Отца, ты окажешься за одним столом, возможно, с теми, кто тебя обижал, кто мешал тебе быть счастливым. Посмотри вокруг: возможно, именно с этими людьми тебе придется коротать вечность.
Но там все иначе. Там все всё поймут. И обнимутся. И возрадуются.
«Божественную же пия Кровь ко общению, первее примирися тя опечалившим, таже дерзая, таинственное брашно яждь».
Оглашение завещания
Когда до начала Великого поста остается всего одна неделя, христиане собираются в церковь, чтобы «вспомнить» грядущий Страшный суд. Неделя о Страшном суде. Это значит, что в третье пред-постное воскресенье читается и осмысляется отрывок из Евангелия от Матфея, который описывает последний и неизбежный суд над каждым человеком.
Уникальность этого библейского сюжета в том, что ход судебного процесса описывает Сам Судья. В этом и ценность рассказа. Христос – Тот, Кто будет судить все народы и каждого человека в отдельности, поэтому Его версия суда – самая точная, а значит, и самая важная. Это не домыслы, догадки или смутные откровения взволнованных провидцев, а отчет Того, Кто Судья по праву рождения и достоинству победителя.
На Последний суд Христос придет во славе. Он не будет скрывать Своего Божества, и мы увидим Его не нищим пророком и бездомным странником, а тем, кто Он есть на самом деле. И все народы предстанут перед взором Творца и Судьи. Это наш первый страх – суда нельзя избежать. Никому. Суд нельзя отсрочить, перенести, пересидеть или отложить «по знакомству». Каждый должен пройти этим путем. Пожалуй, это самое неизбежное в биографии человека.
Второй страх – страх разделения. Еще до того, как опросить обвиняемого и свидетеля, выслушать адвокатов и присяжных, Судья отделит «овец» от «козлов». Сразу. Без слов. Без объяснений. А зачем Ему говорить – Тому, Кто смотрит прямо в сердце?
Третий страх – услышать от Судьи, что ты, на самом деле, в числе праведников. И когда успел попасть? Как угодил в овцы? Господь сразу выносит приговор. Но как же удивительно прост закон, по которому Он судит! Перед престолом Судьи стоят все народы, от начала времен до последних часов жизни человечества, все расы, все племена со всех частей света. О чем спрашивает Христос? Разве Он скажет: «евреи, выйдите вперед, мы ведь свои»; или: «пропустите православных, ибо у них вся полнота откровения»; или так: «мужчины пусть подойдут первыми, проявите уважение»; а может, Он скажет: «монархисты, узрите подлинное Царство»; или мы услышим: «приидите, служители муз и наук, утешьтесь, отдохните, вам первым принадлежит Царство Логоса, потому что вы поняли слишком много»?
И наоборот, сложно представить Христа, который сразу прогоняет «в конец очереди» демократов, либералов, женщин, а может, «наглых» американцев или некрещеных индусов.
Христос каждому говорит удивительную вещь: это не первая наша встреча. Мы встречались и раньше. Мы давно знакомы. И праведники, и грешники отвечают Христу в недоумении одно и то же: когда мы видели Тебя? И грешники, и праведники страдают пороком зрения, и эта слепота не позволила им опознать Христа раньше, при первой встрече.
Первая встреча – о времени. Вторая – о вечности.
На Страшном суде каждый получает свою меру вечности.
Праведникам – жизнь вечная. Грешникам – вечная мука.
Почему? По какому закону? По закону любви к людям.
Людей судят по закону любви. Но как необычно работает этот закон! Христос никого не спрашивает о его национальности, взглядах и образовании, не требует зачитать Символ веры. Он не говорит: «наследуйте Царство, потому что вы верили в Бога, поддерживали церковную политику, вычитывали положенные молитвы и постились по уставу». Собственно, и суд – не совсем и суд, а скорее оглашение завещания о вступлении в наследство.
Кто же наследники?
Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть;
жаждал, и вы напоили Меня;
был странником, и вы приняли Меня;
был наг, и вы одели Меня;
был болен, и вы посетили Меня;
в темнице был, и вы пришли ко Мне…
Так как вы сделали это одному из сих братьев
Моих меньших, то сделали Мне
(Мф. 25: 35–37, 41).
Младшим братом Христос назвал всякого нуждающегося. В притче о блудном сыне старший сын, правильный и непорочный, не смог назвать младшего брата братом, таким презренным и ничтожным был этот докучный родственник, «сын своего отца». Старшему невыносимо было само слово «брат». А вот для Христа это одно из самых дорогих имен. Бог не стесняется назвать нищих и убогих своими братьями. Для Него это имя – не метафора. Христос зовет на Свой пир всякого, кто не презрел Его братиков и сестричек, ущербных, униженных, раздавленных жизнью.
Бог не судит нас за то, что мы не заметили Его в нашу первую встречу. Нас судит не Христос, а те меньшие братья и сестры, наши братья и сестры, жизни которых мы не приметили. Они жили рядом, дышали с нами одним воздухом, а мы даже не заметили их жизни и их нужды.
Неужели Господу не интересно услышать на суде о нашей вере, о наших духовных упражнениях, успехах миссии и богословия? Если твоя вера и пост не сделали тебя зрячим, не растопили сердце, не заразили добротой и милосердием, зачем все это? Молитва, пост, богослужения – это средства, помогающие нам стать богоподобными. Быть подобными Богу можно лишь в одном – подражая Его милосердию и доброте, Его нежному вниманию и заботе. В каждом видит Господь своего младшего братика и маленькую сестричку. Так и мы должны смотреть на тех, кто рядом. И если это единственное, о чем спросят на Последнем суде, может, не обязательно мудрствовать и изощряться в теологии, а просто делать добро там, где это возможно? Это ведь так просто и естественно – быть добрым, а значит, богоподобным, быть богом и утешителем для своих близких.
При чем же здесь пост и Пасха? Почему этот евангельский отрывок дается христианам для напряженного созерцания сейчас, за неделю до Великого поста? Потому что Пасха – не моя личная история, не мой личный праздник. Пасха – для всех. Нельзя прийти на пир Царствия самому по себе. Жизнь вечная, в которую вступают праведники, – это и есть пасхальный пир Царствия. Вечную жизнь нельзя наследовать лично, персонально, для себя. Там сядут за один большой семейный стол – братья и сестры, братики и сестрички.
Вечность – не для личного пользования. Вечность надо обязательно с кем-то разделить – с сестрой, с братом, а они не всегда «премудрые и разумные». Чаще всего они – меньшие и умаленные, но и такими их любит Бог и принимает, и усаживает за один стол с «премудрыми и разумными». Евангелие не успокаивает нас, а отрезвляет и напоминает: вот эти люди, с которыми ты видишься каждый день, споришь, возмущаешься, обижаешь, – не с ними ли ты будешь делить вечность, не с ними ли ты сядешь за один стол в доме Отца? Другой вечности – стерильной и безлюдной – Бог нам не обещал. Готов ли ты к такой вечности? Примешь ли ты такую Пасху? Такую ли Пасху ты ждешь?
У ворот рая
Старушка на двух палочках с большим трудом приходит в субботу вечером, в канун Прощеного воскресенья. Ее давно не было. Ей трудно ходить. Но эту службу она не пропустит. Спросите: что ей дома не сидится? И она вам ответит: сегодня последние «вавилоны». Это она про 136-й псалом «На реках Вавилонских». Красивейшее песнопение. Грустное. Трогательное. Его поют в той части службы, когда священники выходят на полиелей – это торжественный момент вечерней службы. Зажигают все светильники, батюшки выходят на середину храма, начинается каждение.
Таких старушек сейчас и не найдешь. Все упокоились. Как их назвать? Может, люди церковной культуры? Тогда уточним: люди церковной богослужебной культуры. Их отличал особый стиль церковного поведения, воспитанный вкус к церковной службе. Когда мы спорим о воцерковлении, этот важный момент всегда ускользает, ему мало придают значения. А потому так режет глаз, коробит слух, когда встречаешь не только простых прихожан, но и священников и епископов, не воспитанных в церковной культуре, с неразвитым вкусом к богослужению.
Вспомнил свое знакомство с «вавилонами». Я был советским школьником и совсем ничего не понимал в богослужении. В тот год к нам в Гомель был назначен епископ – владыка Аристарх, монах лаврской школы, человек горячо любивший и понимавший богослужение, искренний и скромный молитвенник. И вот я вижу привычные действия: владыка с батюшками вышел в центр храма, хор поет величественное «Хвалите имя Господне», началось каждение алтаря. Владыка, покадив алтарь, вдруг останавливается в царских вратах, поворачивается лицом к престолу, и во всей церкви вдруг гаснет электрический свет, и в полном молчании колышутся только огоньки свечей и лампад. И тут хор запел «На реках Вавилонских». Смогу ли я когда-нибудь передать, что чувствовал в тот миг? Может, и не стоит. Лучше пережить это самому, окунуться в эту красоту и молитвенное сокрушение.
Евреи на чужбине оплакивают свою бездомность. Маленький эпизод истории древнего народа, сделавшись предметом созерцания, обратился в образ моей личной бездомности и сиротства. В юности мне казалось, что свет гасят в церкви, чтобы можно было спокойно поплакать, без свидетелей. Плачут епископы, рыдают священники, всхлипывают школьники – все мы обездолены, одиноки, бездомны – просто потерянные дети, потеряшки и сиротки. Плачут, потому что найдены, взяты на руки и согреты.
Наш хор всегда исполнял «На реках Вавилонских» по нотам композитора Крупицкого. Простая музыка. И неповторимая. Но этот псалом поется три раза в году: в Неделю о блудном сыне, в Неделю о Страшном суде и в канун Прощеного воскресенья. Три раза. Это мало. Однако наши церковные бабушки целый год ждут неповторимого, тех молитв, которые поются лишь раз в году.
Старушка на двух палочках привычно осведомилась, будем ли мы сегодня петь «Седе Адам» и стихи по шестой песни канона? Какие тонкие слушатели! Когда-то давно я раздобыл нотные рукописи одного старинного монастыря. Девчоночьи ноты, сказал бы я: вся партитура в витиеватых буквицах с завитками, а по краям цветочки и херувимы, вырезанные из открыток и конфетных оберток, – женщины, хоть и в монашеских одеждах, никак не могут без красоты! Среди рукописных «пиэс» одна сердечно сентиментальная – стихира Сырной недели на «Господи воззвах» «Седе Адам». И мы ее пели. Музыка незатейливая, даже в чем-то примитивная, но чрезвычайно трогательная. И вместе с бабушкой я теперь жду этот вечер и эту стихиру. Теперь мы ее поем просто на шестой глас. Если вы умеете петь «Царю Небесный», значит, знаете этот напев, знаете, как звучит шестой глас. Вот и спойте:
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.