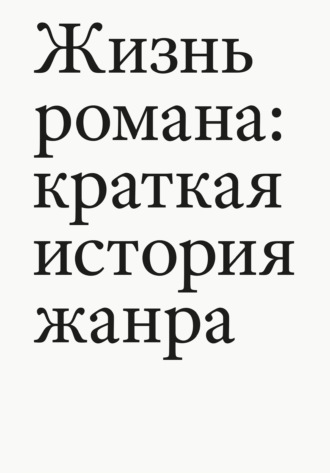
Полная версия
Жизнь романа. Краткая история жанра
Поэзии (в том благородном смысле, который придавали этой деятельности романтики) в принципе суждено было стать высшим выражением сущности мира, поэтому романисты, стремившиеся ей подражать, испытывали определенный стыд за свое прежнее ремесленное мастерство и убеждали себя в том, что придумывать ладно скроенные сюжеты, изображать стремления и несовершенства человека, предлагать читателю честные нравственные и социальные уроки – это, пожалуй, недостаточно возвышенные цели. Серьезно относясь к новой программе, талантливые романисты первой половины ХХ века поставили перед собой задачу передать поэтическое единство мира, задачу, по сути, неблагодарную и к которой их ничто не готовило.
Ибо речь шла уже не о том, чтобы предложить читателю яркую, даже образцовую, картину четко выделенного фрагмента социальной жизни, а о том, чтобы заставить его почувствовать безмолвную тайну мира, воплощенную в совершенстве текста. Не теряя при этом ни близости к разговорной речи, ни точности, заимствованной из Гражданского кодекса, стиль перестал быть вспомогательным элементом, функция которого сводилась к адекватному усилению сообщения; теперь от него ждали самостоятельного сияния, независимого от породившего его повествования. Доведенное до крайности стремление к самодостаточному формальному успеху породило мираж «Книги ни о чем», которая, по часто цитируемому выражению Флобера, «держалась бы сама по себе, внутренней силой своего стиля, как земля держится в воздухе без всякой опоры» [5]. Совершенство стиля стало самоцелью, а анекдот, по крайней мере в принципе, был сведен к тому, чтобы служить поводом для письма.
Учение романтизма, усвоенное модернизмом, также настаивало на главенстве субъективности. Поэтическое единство мира, безмолвно выражаемое формальной силой произведений, должно было раскрыться только в тайне внутренней жизни. А поскольку душа поэта призвана быть и зеркалом, и живым источником мира, то считалось, что самый короткий и скромный субъективный опыт хранит столько же вечных драгоценностей, сколько небесный свод. Таким образом, главной задачей искусства, в том числе и искусства романа, стала задача взять из жизни и посредством магии формы показать совместное рождение субъекта и мира. Преображенная культом субъективности, «Книга ни о чем» в мгновение ока стала «Книгой обо всём» [6].
Естественно, творцы и критики считали, что связь с миром произведения, задуманного и написанного в соответствии с этими заповедями, может оставаться миметической лишь на поверхностном и вспомогательном уровне. Авторы великих модернистских романов, конечно, продолжали выдумывать персонажей и рассказывать об их злоключениях, но эти выдумки и эти рассказы в принципе не должны были играть никакой другой роли, кроме мотива (в том смысле, в каком этот термин используется в живописи), то есть простой отправной точки для создания произведения, эффект которого возникал бы прежде всего из силы формы и энергии ее субъективных резонансов.
Несмотря на способность к адаптации, огромные резервы доброй воли и незабываемое качество произведений, созданных по новому методу, романисты, призванные решать столь обременительные и далекие от привычек своего ремесла задачи, вряд ли могли не испытывать двойственный дискомфорт. С одной стороны, практиков, которые, будучи привязанными к традиции, не до конца перешли на новую поэтику, постепенно вытесняли за пределы хорошего вкуса, притом что они не понимали и не принимали резонов подобной немилости. С другой стороны, у некоторых новаторов, действительно принявших эгиду поэзии, – при взгляде на шедевры, созданные модернизмом, – возникало неясное сомнение: не упустили ли они из рук добычу, предпочтя самость миру и стиль материи. Это сомнение усиливалось уверенностью в том, что мистика Уникальной книги, художественного письма и примата субъективности порождала культ редких творений, которые поднимались до ее уровня, но эти счастливые исключения по определению должны были сильно выделяться из массы романов. Но, в отличие от эпоса, который уникален по своей природе, роман не может жить исключениями. Это жанр, присущий большому количеству произведений.
Чтобы утешить многочисленных собратьев по перу, чьи усилия не привели к чуду шедевра, наиболее верные приверженцы поэтического выбора, в том числе и Морис Бланшо, объясняли, что искусство романа по своей природе было искусством криводушия и неизбежного провала. И хотя в современном производстве модернистских произведений действительно присутствовала определенная доля криводушия, это криводушие, отнюдь не воплощавшее отношения писателя с поэтическим Абсолютом, в значительной степени было обусловлено решениями практического характера: среди художественных произведений, созданных согласно заветам современной поэзии, шансы на одобрение публики имели только те, авторов которых по-прежнему интересовал мотив, а именно герои и их приключения. Но именно интерес к мотиву был сильной стороной романа задолго до возникновения поэтической модели, когда его искусство заключалось во внимательном наблюдении за миром и построении правдоподобных повествований. И поскольку во многих модернистских романах стилистическая живость и внимание к субъективному опыту всё же сосуществовали с наблюдением за миром, с построением ярких сюжетов и изобретением колоритных персонажей, было ясно, что искусство романа не в полной мере восприняло поэтическую революцию.
Как господство правдоподобия в XVIII и XIX веках не исключило раз и навсегда идеализм старых романов, так и модернизм, понимаемый как попытка объединить культ формы и культ субъективности, не мог сам по себе объяснить принципы, на которых строились великие романы ХХ века. И если революционность позиций модернизма заставила его минимизировать вес обычаев и мудрость привычек правдоподобия, то практика модернистского романа, исподволь восстанавливая равновесие, продолжала следовать этим обычаям и этой мудрости, украшая их самыми изысканными формалистическими и субъективными прикрасами. Чтобы убедиться в этом, достаточно немного поскрести эстетизм Пруста, и вы сразу же увидите сен-симоновские и бальзаковские основы; если не обращать внимания на провокации Селина, вы сразу же услышите почтенные отголоски плутовского романа.
Вымышленное прошлое романа
С выживанием прошлого в настоящем тем не менее было трудно смириться. Как романы XVIII и XIX веков считали, что окончательно изжили предшествовавшие им повествовательные формы, так и модернизм предстал как необратимое преодоление памяти романа. И как в случае с эгалитарным идеализмом в XVIII веке и социальным реализмом в XIX, успешная смена режима сделала практически невозможным понимание предшествовавшего ему состояния вещей. В таких ситуациях одинаково велик соблазн преувеличить разницу между новой системой и прежним состоянием мира, который в ретроспективе приобретает неправдоподобную однородность, или, наоборот, спроецировать в прошлое трансформационный импульс, его предпочтения и фобии. Прошлое в этом случае становится либо местом отвратительной инаковости, либо местом самой обнадеживающей идентичности, населенной исключительно врагами или предшественниками. Мнения сюрреалистов и русских формалистов о великом романе второй половины XIX века являются яркой иллюстрацией этих двух взаимодополняющих взглядов.
Сюрреалисты разыграли карту возмущенного неприятия прошлого. Знаменитыми остались слова Андре Бретона: «Вслед за судом над материалистической точкой зрения следует устроить суд над точкой зрения реалистической. < … > Реалистическая точка зрения, вдохновлявшаяся – от святого Фомы до Анатоля Франса – позитивизмом, представляется мне глубоко враждебной любому интеллектуальному и нравственному порыву. Она внушает мне чувство ужаса, ибо представляет собой плод всяческой посредственности, ненависти и плотского самодовольства» [7]. Обилие и легкость так называемых реалистических романов, описательная техника, психология персонажей и мотивация в свою очередь подлежат осуждению во имя чудесного, во имя магического изобретения, лирического поиска «изнанки реальности».
Русские формалисты, столь же привязанные к поэтическому модернизму, как и французские сюрреалисты, инстинктивно пошли по противоположному пути и с умилением обнаружили в литературном прошлом вечное повторение и провозглашение собственных проектов. История литературы, утверждали русские формалисты, всегда была историей технических новаций, а самым типичным успехом в истории жанра был «Тристрам Шенди» Стерна, произведение, в котором неиссякаемый пыл рассказчика выражается в стиле, насыщенном формальными чарами. (Этот парадокс имел долгую жизнь; он был поддержан еще Фридрихом Шлегелем и впоследствии станет одним из общих мест модернистской критики.) Но настоящей находкой русских критиков-формалистов стало ретроспективное выдвижение социального и психологического реализма, и в частности творчества Толстого, чья проза благодаря теории Виктора Шкловского была возведена в ранг предтеч формализма. Использование яркой материальной детали, с помощью которой роман XIX века напоминал читателю об объективности мира, получило название «остранение». Эффект этого технического приема, пояснял Шкловский, состоит в том, чтобы вызвать неожиданность восприятия: яркая деталь обновляет представление читателя о самых знакомых действиях и предметах, заставляя его увидеть их как бы впервые. Этот прием неожиданности, так похожий на формальные игры модернизма, был описан Шкловским и как вершина реалистической точности, и как вечный закон стилистической рельефности [8]. Другими словами, писательская игра постоянно изобретает мир заново.
Таким образом, отказ от прошлого не исключает присвоения хороших предков или эпизодической мобилизации ушедших идеалов под знаменем нового художественного и идеологического выбора. Генеалогия романа, излюбленного модернизмом, выстраивалась в обратном направлении, исходя из специфических для этого течения критериев: бунт против господствующих норм («Дон Кихот»), формальное своеобразие («Пантагрюэль», «Франсион», «Тристрам Шенди», «Жак-фаталист», «Моби Дик»), наличие рефлексии над субъективностью («Принцесса Клевская», «Вильгельм Мейстер»). В соответствии с этими критериями предпочтение, естественно, отдавалось ироничным, зловещим, порой незавершенным текстам, то есть тем, которые наиболее близко перекликались с модернистскими практиками. Роман задним числом был объявлен антагонистическим, бунтарским жанром, который всегда создавал исподтишка иллюзию правдоподобия, чтобы указывать на более глубокую правду и сомнение. В результате прошлое романа стало ареной вечной борьбы волнительных, гипнотических, не поддающихся классификации произведений с тиранией повествовательной банальности.
Ретроспективный выбор предков часто принимает форму списков рекомендуемых авторов и названий – списков, подчиняющихся скорее восхитительному ощущению родства, чем ясности концепта. Так что путаница между исключительными произведениями и произведениями-исключениями не обошла стороной и пантеон модернистов. Тот же Бретон, который порицал реализм, выражал безграничное восхищение готическим романом Мэтью Льюиса «Монах» (1796), названным «образцом точности и бесхитростного величия…» [9]. Почему выбрано такое примитивное и плохо написанное произведение, как «Монах»? Потому что, по мнению Бретона, в этом тексте воплотилось чудесное, которое «одно только способно оплодотворять произведения, принадлежащие к такому низкому жанру, как роман, и в более широком смысле – любые произведения, излагающие ту или иную историю». Другими словами, избыток неправдоподобия, переименованный в «чудесное», был бы единственным способом спасти романы от банальности, присущей жанрам, повествующим о действиях, и именно потому, что, оцениваемый по критериям реалистического романа конца XIX века, «Монах» резко контрастирует с идеалом, выдвигаемым этими критериями, он в результате становится достоин сюрреалистического почитания.
Было бы бесполезно протестовать против подобной путаницы и утверждать, что значение «Монаха» нельзя оценивать без учета исторических проблем, характерных для готического романа. В дальнейшем мы увидим, что в данном конкретном случае Бретон был инстинктивно прав, хотя и не имел достаточно дифференцированного критического языка, чтобы обосновать свое предпочтение. Такой протест был бы напрасным, потому что если модернизм преувеличивал значение необычных произведений или, как в случае с «Монахом», сознательно делал необычный выбор, то критики, защищающие великое реалистическое прошлое, с симметричной слепотой искали шедевры среди показательных произведений. В эссе с симптоматичным названием «Великая традиция» английский критик Ф. Р. Ливис составляет весьма эксклюзивный список гениев английского романа, ограниченный именами Джейн Остин, Джордж Элиот, Генри Джеймса и Джозефа Конрада [10]. Сразу бросается в глаза полемическая направленность и несправедливость выбора, поскольку нельзя понять развитие английского романа в XIX веке, если не расширить список именами Вальтера Скотта, Чарльза Диккенса и Уильяма Теккерея, к которым следует добавить имена Мэри Шелли, Шарлотты и Эмили Бронте, Энтони Троллопа и Томаса Харди. Но столь же очевидно, что если бы цель операции заключалась в том, чтобы обозначить четыре имени показательных английских романистов для украшения огромного фронтона здания в стиле Второй империи, то выбор Ливиса был бы удовлетворительным.
Цель этой книги
Подведем итоги. Ставка, которую сделал модернистский роман, – ставка, последствия которой до сих пор ощущает роман современный, заключалась в том, чтобы порвать с прошлым жанра и принять художественный идеал, основанный на культе формы и субъективности, – одним словом, стать литературой. Благодаря прагматической и привычной традиции романа риски такой ставки были снижены в силу негласной памяти о методах, которые ей предшествовали. Точно так же как эгалитарный идеализм XVIII века и социальный реализм XIX века продолжали находиться под влиянием негласной памяти о старых идеалистических романах, так и модернизм никогда не забывал уроков реалистического ремесла. Таким образом, прошлое романа продолжало влиять на его практику, но так, чтобы взаимодействие творческих мутаций и практических оснований ремесла всегда оставалось нераскрытым, а истинность этого влияния всегда была очевидной для всех заинтересованных участников.
Цель данной книги – вывести на свет это взаимодействие и эту истину. Предлагаемая мною история романа дистанцируется от волюнтаристской и избирательной памяти, которая в разное время служила полемическим потребностям новых течений. Напротив, я попытаюсь выделить привычный характер прошлого романа и подчеркнуть, что в основе сменяющих друг друга волн, которые отличают его развитие, лежат то подъемы, то отливы прошлого.
Какой метод использовался? Прежде всего, следует с осторожностью относиться к спискам гениев и шедевров. Фиксируя первое движение памяти, эти списки приводят имена героев и великих деяний, которые очевидны для того или иного человека, для того или иного течения. Пристрастные и мимолетные, списки тем не менее полезны тем, что в них зафиксированы поиски и даже изобретение предков, а также сменяющие друг друга предпочтения в обучении и памяти просвещенной публики. Кроме того, они содержат зачатки теоретического вопроса. Например, творческий гений, который они прославляют, проявляется попеременно то в виде исключения, то в виде показательного примера. Это чередование поднимает следующую проблему: какие произведения действительно имели значение в истории романа – те, которые получили известность благодаря своей исключительной новизне (как хотел бы нас убедить модернизм), или те, которые, наоборот, образцово воплотили в себе практику жанра в свое время?
Начало списка также имеет значение, поскольку ставит вопрос об инаугурационном моменте жанра, а значит, и о его происхождении. Произведение, выбранное для обозначения начал жанра, варьируется в зависимости от необходимости различных оснований, но в большинстве имеющихся списков смысл решения остается неизменным и подчеркивает, в соответствии с ретроактивными интересами современного романа, победу повествовательной правды над идеализирующей ложью. Среди названий, которые сторонники правдоподобия ставят у истоков романа, – плутовская повесть «Ласарильо с Тормеса» повествует о тяготах жизни, лишенной героизма и благородства, «Дон Кихот» откровенно высмеивает старые романические и идеалистические жанры и предвещает разочарование в мире, «Принцесса Клевская» выступает против великих романов барокко и основывает психологический реализм, «Молль Флендерс» и «Памела» описывают современного индивида, его морализаторские рассуждения и пристрастие к материальным благам. Критики, присуждающие пальму истины роману XIX века, вынуждены настаивать не столько на инаугурационном моменте социального реализма, сколько на его зрелости и совершенстве его достижений (романы Бальзака, Диккенса, Достоевского, Толстого), но они ни на минуту не сомневаются ни в глубоком разрыве, отделяющем современный роман от его античных, средневековых и барочных предшественников, ни в прогрессе, который представляет собой современный роман по сравнению с ними.
Историческое видение, имплицитно угадываемое в списках гениев и шедевров, в еще большей степени развивается в рамках того, что я назову естественной историей видов романа. Родившись во второй половине XIX века под влиянием позитивистской истории литературы и доминировавших в то время биологических моделей, естественная история романа ставит почти что исчерпывающее знание источников и текстов на службу четко сформулированным гипотезам относительно эволюции жанра. Ее исходным постулатом является то, что литературные жанры, подобно биологическим видам, развиваются и трансформируются друг в друга в процессе конкуренции, мутации и скрещивания. Так, Эдвин Роде, первый «естественный» историк античного романа, считал, что греческие романы возникли в результате скрещения позднего эпоса, путевых записок и биографии [11]. Он, несомненно, ошибался в своих атрибуциях, но тем не менее его рассуждения следовали плодотворной методологии, точки зрения которой я буду придерживаться при изучении соперничества и слияния повествовательных видов.
Большими достижениями естественной истории романа стали временной размах и родовое разнообразие. История французского романа Анри Куле дает обширный обзор и отличается богатством документации и точностью оценок, касающихся развития различных поджанров романа – рыцарского романа, героического романа в традиции Гелиодора, пасторального романа, плутовского, аналитического романа и т. д. [12] Каждый из этих поджанров стал также предметом ценных специальных исследований. Исторический размах этих работ тем более примечателен, что история литературы была и остается связанной узами деления на периоды, на «века», а в последнее время и на эпистемы, внутреннюю согласованность и взаимную несовместимость которых специалисты склонны преувеличивать. Забытая в палеонтологии, идея катаклизма, придуманная Жоффруа Сент-Илером, по-прежнему актуальна в истории литературы.
Естественные истории романа, как правило, избегают этого предвзятого отношения хотя, к сожалению, в большинстве случаев остаются в ловушке предубеждения против предмодерных романов, в частности против великих романов XVII века. К достоинствам этих историй следует отнести проницательность, с которой они апеллируют к внелитературным замечаниям: позитивизм, одинаково сурово осуждаемый социологами и эстетами, обладает огромной заслугой в создании правдоподобных исторических гипотез и их доказательстве. Не претендуя, конечно, на ученость, соперничающую с естественными историями, я попытаюсь подражать их интересу к долговременной истории.
Продолжая и углубляя результаты естественной истории видов романа, другой тип размышлений сосредоточился на истории романных техник; эта дисциплина, возникновение которой связано с формальными исследованиями, проводившимися искусствоведами в конце XIX и в начале XX века, несомненно, отчасти обязана своим престижем модернистскому интересу к форме. Один из наиболее известных примеров успеха такого рода рефлексии – эссе Михаила Бахтина «Формы времени и хронотопа в романе» – заимствует широту исторического видения у естественной истории романа (в данном случае у Эдвина Роде) [13]. Заслуга Бахтина состоит в том, что он рассмотрел историю романных приемов в масштабе тысячелетий и пришел к выводу, что современным формам жанра предшествовала немалая предыстория, включающая не только повествовательную прозу до Рабле (произведения этого автора стали для Бахтина эпифанией романа Нового времени), но и биографические и философские сочинения, включая «Сравнительные жизнеописания» Плутарха и диалоги Платона. Опираясь на работы учеников Дильтея, от которого он унаследовал увлечение исторической морфологией культуры, Бахтин стремился определить формальные признаки, соответствующие различным этапам развития романа. Критик отмечает, например, что в эллинистическом романе (который он называет «романом испытания») действие происходит в абстрактном времени и пространстве, – лишенном определенных черт, – что характеры персонажей неизменны, а последовательность эпизодов не имеет внятной причинно-следственной мотивации. Формальная наивность этих черт, по мнению Бахтина, будет полностью преодолена только в реалистическом романе XIX века, единственном, которому удалось достоверно представить время и пространство во всём богатстве их конкретных детерминаций, психологического взросления персонажей и причинно-следственной последовательности эпизодов. Сразу видно, что описанная русским критиком последовательность техник устанавливает исторический разрыв между, с одной стороны, новейшим реалистическим романом, объектом которого является конкретная правда времени, пространства, причинности и человеческой психологии, и, с другой стороны, «предысторией» романа, пестрящей произведениями, наполненными жизненной силой, но абстрактными, неправдоподобными и потому несовершенными. Эта схема принимает историческую предвзятость новейшего романа и, порицая лживую изобретательность предмодерных романов, восторгается скрупулезной дотошностью реалистического изображения.
Поразительная точность бахтинских описаний, конечно, не зависит от того, какое ценностное суждение лежит в их основе. Недостатки теории Бахтина кроются в другом. Во-первых, при всей своей насыщенности и точности, его описание эллинистических романов остается слепым к интимной логике их повествовательной вселенной. В репрезентативных искусствах формы обычно несут в себе содержание, которое делает их понятными и актуальными; поэтому недостаточно отметить в эллинистическом романе абстракцию времени и пространства, психологическую ригидность персонажей и произвольность эпизодов, не задумываясь при этом о художественной целесообразности этих особенностей. Суждение о несовершенстве этих романов справедливо лишь в том случае, если можно показать, что данные формальные признаки плохо служат воплощению заключенной в них идеи. Однако Бахтин редко задается в ясных выражениях вопросом о том, какую мысль передают интересующие его формы.
Во-вторых, бахтинская история техники романа лишь вскользь касается причин, сделавших возможным подъем социального реализма, и не задается вопросом, почему в конце концов восхитительная конкретность и правда романов ХIХ века пришли на смену удручающей абстракции и неправдоподобию прошлого. Этот вопрос имеет определенную актуальность, поскольку если естественные истории романа остаются чувствительными к социальной и культурной среде литературы и часто высказывают внелитературные исторические объяснения, то история романных техник довольствуется, по крайней мере на первых порах, наблюдением за формальными особенностями произведений, изолируя их от социальных или когнитивных факторов, которые могли их породить. Такая изоляция, вполне оправданная в качестве временного варианта, в долгосрочной перспективе оказывается проблематичной. Формальная воля, проявляемая искусством, вполне может быть связана с неотъемлемой свободой человеческого духа, как с поразительной твердостью утверждали в XIX веке немецкие историки культуры; но не менее верно и то, что эта свобода не изобретает формы по своему усмотрению, вдали от обыденной жизни.
Для объяснения движения романных форм и полагая, что ему удастся избежать социологического редукционизма, столь распространенного в его время, Бахтин выдвинул гипотезу, которая была одновременно и социальной, и художественной. Он постулирует двойное существование феодальной идеологии, которая должна была свести к минимуму значимость пространственных и временных категорий, и противоположной ей антиидеологической и народной силы, выражающей себя в фольклоре, фарсе, пародии и сатире. На примере таких произведений, как «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле и «Дон Кихот» Сервантеса, русский критик утверждает, что комическое завоевало роман, придав ему новую сатирическую и нетрадиционную направленность, что, в свою очередь, вело путями, детали которых еще предстоит установить, к появлению современного социалистического реализма.

