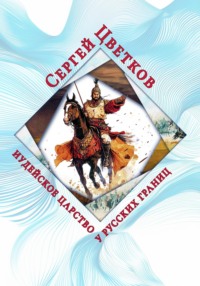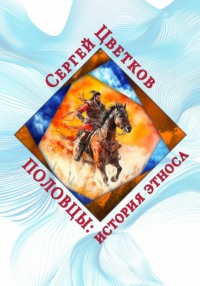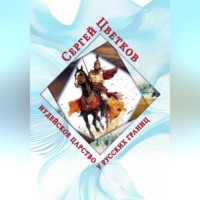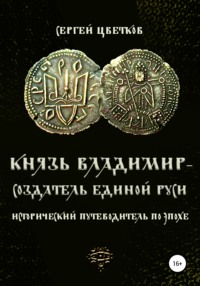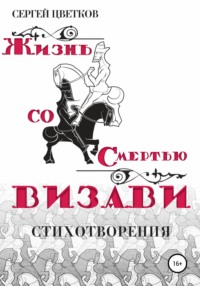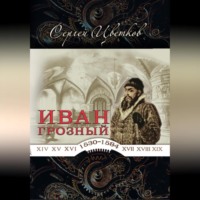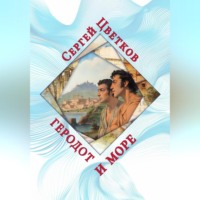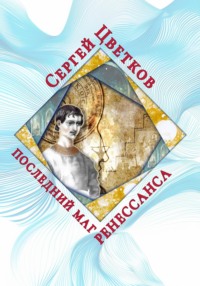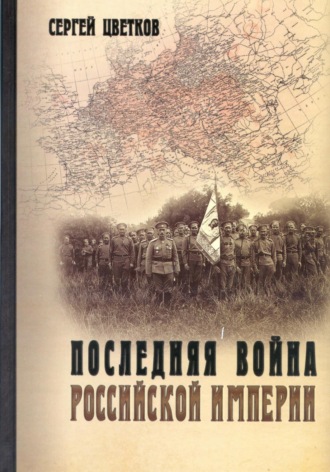
Полная версия
Последняя война Российской империи
Петербургская речь прославленного полководца, быстро разлетевшаяся по страницам русских и европейских газет, побудила сербскую молодежь посетить Скобелева в его квартире на рю Пентьер, чтобы поднести ему благодарственный адрес.
Задушевная беседа продолжалась часа два. А наутро часть ее появилась в газете «La France» в виде новой речи русского героя.
Скобелев явно был в ударе и говорил без обиняков:
«Я должен откровенно высказаться перед вами, я это делаю.
Я вам скажу, я открою вам, почему Россия не всегда на высоте своих патриотических обязанностей вообще и славянской миссии, в частности. Это происходит потому, что как во внутренних, так и во внешних своих делах она в зависимости от иностранного влияния. У себя мы не у себя! Да! Чужеземец проник всюду! Во всем его рука! Он одурачивает нас своей политикой, мы – жертвы его интриг, рабы его могущества… Мы настолько подчинены и парализованы его бесконечным, гибельным влиянием, что, если когда-нибудь, рано или поздно, мы освободимся от него – на что я надеюсь – мы сможем это сделать не иначе, как с оружием в руках!
Если вы хотите, чтобы я назвал вам этого чужака, этого самозванца, этого интригана, этого врага, столь опасного для России и славян… я назову вам его.
Это – автор «натиска на восток» – он всем вам знаком— это Германия.
Борьба между славянством и тевтонами неизбежна… Она даже очень близка. Она будет длительна, кровава, ужасна, но я верю, что она завершится победой славян…»
На другой день Скобелев дал интервью корреспонденту одной из французских газет, в котором подтвердил свои политические убеждения: «Да, я сказал, что враг – это Германия, я это повторяю. Да, я думаю, что спасение в союзе славян – заметьте, я говорю славян – с Францией».
Парижская речь генерала сразу же затмила по своей популярности петербургскую. Многие приняли ее за прямой призыв к войне. Политики и дипломаты пребывали в смятении. «Ни одна победа генерала Скобелева не наделала такого шума в Европе, как его речь в Париже», – писала газета «Киевлянин».
Германию накрыл яростный приступ русофобии. Один англичанин, находившийся тогда проездом в Берлине, писал, что имя Скобелева слышалось повсюду. Взрослые и дети вслух «выражали свою ненависть к славянам и к Скобелеву. На гауптвахте, находящейся на аристократической оконечности улицы Unter den Linden, солдаты вели воинственный разговор о России». Парижскую речь Скобелева немцы уже никогда не забывали.
Горячности генерала не поняли даже в России. Бывший военный министр Дмитрий Алексеевич Милютин назвал публичное выступление Скобелева «эксцентрической выходкой». Тем не менее, признал он, «самое возбуждение общественного мнения такими речами, какие произнесены Скобелевым, выявляет больное место в настоящем политическом положении Европы и те черные точки, которых надобно опасаться в будущем».
Правительственные круги в Петербурге оценили речь Скобелева как «поджигательную», а его поведение – как «бестактное», ставящее правительство «в затруднение». Александр III предписал отозвать провинившегося генерала в Россию – окольным путем, в объезд Германии, от греха подальше. В «Правительственном вестнике» было опубликовано специальное заявление русского правительства с осуждением выступления Скобелева. «Подобные частные заявления от лица, не уполномоченного правительством, – говорилось там, – не могут, конечно, ни влиять на общий ход нашей политики, ни изменить наших добрых отношений с соседними государствами, основанных столь же на дружественных узах венценосцев, сколько и на ясном понимании народных интересов, а также и на взаимном строгом выполнении существующих трактатов».
Спустя четыре месяца возмутитель спокойствия внезапно умер, и скандал, вызванный его речами, постепенно утих.
Казалось, что высказанные Скобелевым идеи умерли вместе с ним. Министр иностранных дел Николай Карлович Гирс заверял в сентябре 1887 года первого секретаря германского посольства в Петербурге Бернгарда фон Бюлова (будущего канцлера): «Я вам даю голову на отсечение, что никогда, никогда император Александр не подымет руку против императора Вильгельма, ни против его сына, ни против его внука». Союз монархической России с республиканской Францией представлялся русскому министру противоестественным: «Как могут эти французы быть настолько глупыми, чтобы воображать, будто император Александр пойдет со всякими Клемансо против своего дяди! Этот союз мог бы только внушить ужас императору, который не стал бы таскать каштаны из огня в пользу Коммуны».
Не прошло и четырех лет после этой беседы, как франко-русский союз был заключен. Головы Гирса, к счастью для него, никто не потребовал.
VII
В июне 1890 года истекал срок действия секретного «договора перестраховки» между Германией и Россией.
Договор этот был заключен тремя годами ранее, когда фактическим правителем Германской империи был имперский канцлер князь Бисмарк. В то время его воображение терзал «кошмар коалиций» («cauchemar des coalitions»)18, он панически боялся создания союзов, которые могли быть направлены против Германии. Бисмарк принадлежал к тем редким политикам, которые не только учат уроки истории, но даже зубрят их наизусть. Перед его мысленным взором непрерывно маячил пример Семилетней войны (1756—1763) – великого столкновения Фридриха II с русско-австро-французской коалицией, едва не ставшего роковым для прусской монархии. Допустить повторения этой политической комбинации он не хотел. Военное поражение, по мысли Бисмарка, с неизбежностью должно было повлечь за собой гибель Германского Рейха, спаянного «железом и кровью». Он как будто предчувствовал грандиозную антигерманскую коалицию 1914—1918 годов, покончившую с Германской империей.
После «военной тревоги» 1875 года, когда Россия и Англия не позволили Германии вторично расправиться с окрепшей Францией, Бисмарк заключил союз с Австрией (1879) и с Италией (1882). Таким образом, он «застраховался» на случай новой войны с Францией или с Россией. Затем, стремясь избежать русско-французского сближения, Бисмарк решил «перестраховаться» двусторонним соглашением с Россией – единственной страной, вызывавшей у него страх независимо от коалиций19.
Российский император Александр III стремился балансировать на франко-германских противоречиях, сохраняя свободу рук. Он пошел навстречу желаниям германского канцлера. В 1887 году русский посол в Берлине Павел Шувалов согласовал с Бисмарком текст договора. Россия обязалась соблюдать нейтралитет в случае нападения любой третьей великой державы на Германию, а Германия взяла на себя точно такое же обязательство относительно России. Кроме того, Германия признавала «исторически приобретенные» права России на Балканском полуострове. Бисмарк любил повторять, что весь восточный вопрос «не стоит костей одного померанского гренадера».
Девяностолетний кайзер Вильгельм I вполне одобрил этот шаг своего канцлера. Рыцарственный старец почитал священными узы знаменитой клятвы, которую на заре столетия его отец Фридрих Вильгельм III и царь Александр I дали у гроба Фридриха Великого в Потсдаме20. Всю свою долгую жизнь он твердо держался курса на дружбу с Россией, где правили его родственники – свояк Николай I, племянник Александр II и двоюродный внук Александр III.
«Договор перестраховки» был заключен сроком на три года, и когда летом 1890 года встал вопрос – продлевать его или нет, у власти в Германии находились совсем другие люди.
Вместо умершего в 1888 году старого кайзера германский престол занял его внук Вильгельм II. Долго ужиться с ним Бисмарк не смог. Молодой и амбициозный Вильгельм желал самостоятельно управлять делами, чего «железный канцлер» решительно не одобрял. Бисмарк был весьма невысокого мнения о политических способностях нового императора и однажды даже вслух посетовал на то, что Германская империя – не США, где президента, не подходящего для занимаемого им высокого поста, можно заменить через четыре года.
Их подспудная борьба за лидерство продлилась меньше двух лет, и закончилась поражением канцлера. В марте 1890 года Бисмарк подал в отставку, которая, разумеется, была принята. Однако влиятельный канцлер сохранил влияние на дела и часто весьма непочтительно отзывался о действиях Вильгельма.
Вильгельм, в свою очередь, критиковал организованную Бисмарком систему континентальных союзов. Впоследствии в своих мемуарах кайзер писал: «Войну между Германией и Россией он (договор) не отвратил бы ни на минуту; не гарантировал бы он и нейтралитета России в случае начала войны с Францией. Для меня нет сомнения в том, что значение этого договора сильно преувеличено – он представлял собой не более чем одну из карт в сложной игре Великого канцлера».
Ни одно из этих утверждений не представляется бесспорным. Но так или иначе «договор перестраховки» не был возобновлен.
Тем не менее, Вильгельм заверил Александра III, что германо-русской дружбе ничто не угрожает: «Я хочу мира на международной арене и порядка внутри страны, ничего иного». «Это полностью совпадает с моими пожеланиями», – ответил российский самодержец.
Тем же летом Вильгельм навестил Александра в Петергофе. Он прибыл туда на роскошной яхте «Гогенцоллерн» в сопровождении небольшой эскадры. Спустя три дня состоялся большой смотр войск в Красносельском военно-полевом лагере. Здесь германский император был подвергнут небольшой моральной экзекуции.
Накануне перед смотром Александр III назначил Вильгельма шефом Выборгского пехотного полка. Одетый в форму своих новых подопечных, Вильгельм во главе колонны прошел церемониальным маршем мимо императора Александра III. После окончания парада он заметил, что Выборгский полк имеет серебряные Георгиевские трубы и обратился к командиру полка с вопросом:
– За какой подвиг мой полк получил серебряные трубы?
Командир полка растерянно молчал, вопросительно глядя на своего государя.
– Отвечайте, полковник! – приказал Александр III.
– За взятие города Берлина21, Ваше Императорское Величество! – был его ответ.
Вильгельм было смутился, но быстро овладел собой. Он повернулся к императору Александру и, протягивая ему руку, сказал:
– Теперь этого более не будет!
Этими словами он желал подчеркнуть, что, несмотря на неприятный инцидент с «договором перестраховки», между Германией и Россией более не может быть вражды.
Александр III думал иначе. В одном из писем он отзывался о своем немецком родственнике как о «мальчишке, который получил плохое воспитание и которому нельзя доверять». Царь уже понял, что в международных делах «теперь господствуют не династические связи, а национальные интересы».
До этого времени Бисмарк искренне считал, что франко-русский союз абсолютно невозможен, ибо царь и «Марсельеза» непримиримы. Это была одна из немногих иллюзий прожженного циника.
23 июля 1891 года на Кронштадтском рейде бросила якорь французская броненосная эскадра контр-адмирала Альфреда Альбера Жерве, прибывшая с визитом дружбы. На следующий день Александр III с семьей взошел на палубу «Marengo». Жерве скомандовал играть «Боже, Царя храни». Спустя еще несколько дней Жерве, вместе с командирами судов и старшими офицерами, был приглашен к обеду в Петергофском дворце. Они шли по ковру из цветочных букетов, которые бросала им под ноги восторженная толпа. К изумлению заморских гостей русские вели себя так, словно разрушенных Севастопольских бастионов никогда не было. Когда французские моряки представились государю, военный оркестр грянул «Марсельезу». При первых звуках крамольной песни царь неторопливо снял с головы фуражку и замер по стойке «смирно». Позднее с российской стороны последовало разъяснение, что государь был очарован восхитительной музыкой французского революционного гимна, а не его словами.
На летнем Красносельском смотре 1892 года место Вильгельма II занял начальник французского Генерального штаба генерал Рауль Франсуа Буадефр. 17 августа Александр III благословил начальника Главного штаба русской армии генерала Николая Николаевича Обручева на подписание с его французским коллегой секретной военной конвенции. Первая ее статья гласила, что если Франция или Россия подвергнется нападению Германии или ее союзников, то вторая сторона «употребит все войска, какими может располагать для нападения на Германию». Начало мобилизации в одной из стран Тройственного союза должно было служить сигналом для немедленных ответных действий. Союзники обещали не заключать сепаратного мира в случае войны и установить постоянное сотрудничество между русским и французским Главными штабами. Подписанию конвенции предшествовал крупный французский заем на военные нужды русской армии.
В октябре 1893 года в Тулоне уже французы принимали русских моряков. Город обуяло праздничное безумие. Во время торжественной встречи причал превратился в людской муравейник; возникла чудовищная давка, в которой пострадали десятки человек. Исполнение русского гимна было заглушено криками: «Да здравствует царь!», «Да здравствует Россия!».
Начальник эскадры вице-адмирал Федор Карлович Авелан с командирами кораблей и многими офицерами посетил Париж, где в их честь также были устроены блестящие праздники. Газеты во всех подробностях публиковали не только бесконечные тосты за благоденствие Франции и России, но и диковинные меню праздничных обедов: «Бульон из дичи, маленькие пирожки. Мусс из парижских омаров. Вырезка по-беарнски. Фазаны а lа Перигор. Салат из трюфелей с шампанским. Дичь по-тулузски». Парижанки целовали встречных русских моряков и давали им поцеловать своих детей. Беспрерывно переходя в продолжение двух недель с одного праздника на другой, русские гости дошли до совершенного изнурения.
Тулонские и парижские торжества стали пышной демонстрацией негласного франко-русского альянса. Совместные маневры французского и русского флотов вызвали «Средиземноморскую панику»: в прибрежных государствах – Италии, Испании, Турции, а также в Лондоне всерьез опасались, что русско-французская эскадра готовится к нападению на Константинополь и Суэцкий канал. Но даже когда паника улеглась, английское правительство, ввиду случившегося, посчитало нужным в ближайшие пять лет обзавестись 160-ю новыми броненосцами, крейсерами, линкорами и торпедными катерами.
1893 год закончился ратификацией конвенции Обручева-Буадефра в Париже и Петербурге.
Кошмары Бисмарка начинали сбываться.
VIII
«Кто пишет историю глупостей германской политики со времени увольнения Бисмарка… тот, к сожалению, пишет историю германской политики», – так выразился однажды выдающийся германский дипломат барон Герман фон Эккардштейн.
Эта эпоха глупостей совпала с началом «der wilhelminischen Aera» – «вильгельмовской эры» германской истории, как ее окрестили немецкие историки и публицисты. Впрочем, глупости тогда совершали не одни немцы.
Личность Вильгельма II, безусловно, наложила яркий отпечаток на свое время. Благодаря ему немецкая внешняя политика определялась не продуманными планами, а жаждой самоутверждения и глубоко укоренившимся чувством неполноценности.
Последний кайзер Германского рейха, несмотря на свой невысокий рост (около 165 см) и парализованную левую руку, обладал броской, запоминающейся внешностью: лицо, облитое холодным величием, надменная посадка головы, пронзительные голубые глаза, упрямый, с характерной ямкой, подбородок. Благодаря ежедневным усилиям его парикмахера усы Вильгельма имели форму буквы «W», с которой, по случайному совпадению, начиналось имя кайзера. В Германии повальная мода на такую форму усов держалась вплоть до отречения Вильгельма в 1918 году.
По своим природным наклонностям он был, в сущности, недурной человек. Подлость была не в его натуре, он часто говорил то, что думал, ценил искусство, интересовался науками, за все время своего правления ни разу не нарушил конституцию, терпеливо сносил критические речи депутатов рейхстага и газетные нападки. Германию он любил и искренне хотел ей блага. К несчастью, самые запоминающиеся черты его характера не были самыми привлекательными.
Вильгельма буквально пожирала жажда популярности. Он не мог жить без восторгов толпы и упорно добивался их всеми способами. Самореклама лежала в основе всех его действий, в большом и в малом, в главном и в мелочах. Приковать к себе внимание – к этому, по сути, сводилась вся его политика, внутренняя и внешняя. Злые языки говорили: «Император Вильгельм желает быть на каждой свадьбе – невестой, на каждых крестинах – новорожденным, на каждых похоронах – покойником». Все его царствование было озарено ослепительными вспышками камер фотокорреспондентов, запечатлевшими германского венценосца на бесконечных парадах, охотах, торжественных обедах, парусных регатах, приемах депутаций, при освящении знамен и замков, спуске броненосцев, открытии новых учреждений, в разъездах по германским землям и ко дворам своих зарубежных родственников.
Уверенный, что «династические чувства германского народа неискоренимы», он любил разыгрывать из себя самодержца22, хотя всегда уступал, столкнувшись с твердой волей своих подданных. Как и положено самовластному государю, Вильгельм не уставал напоминать о Боге, который руководит его поступками и благословляет Германию на процветание под его скипетром. «Я веду вас навстречу великолепным временам», – уверял он немцев. Это был очень покладистый Бог – его воля всегда совпадала с желаниями кайзера. «Мы, Гогенцоллерны, являемся исполнителями воли Божьей», – говорил кайзер другим европейским монархам, которые только с недоумением пожимали плечами, – а чью же тогда волю исполняют они?
Мать Вильгельма еще в пору его юности заметила, что ее первенец «более чем высокого мнения о самом себе, просто-таки наслаждается собой». По мнению знатоков придворной жизни, золотое правило общения с кайзером состояло в том, чтобы беспрестанно выражать восхищение его талантами. Дипломат Иоахим фон Райхель, хорошо изучивший кайзера за многие годы общения, писал о неумении и нежелании Вильгельма слушать собеседника, навязчивом стремлении с дилетантским апломбом выносить безапелляционные приговоры по самым различным вопросам, отмечал его манеру «излагать свои мысли в стиле высокой патетики, где полнейшая беспардонность соседствовала с дешевой сентиментальностью».
Хотя некоторые из близких к кайзеру людей и говорили о его выдающихся задатках, это мнение, увы, нечем подкрепить. Слова и дела Вильгельма свидетельствуют о неглубоком уме, средних способностях, поверхностном образовании. В сочетании с неумением надолго сосредоточиться на одном вопросе и природной ленью эти качества делали Вильгельма неспособным ни к какому усидчивому труду, ни к какому мало-мальски серьезному усилию мысли. Его министрам ни разу не удалось заставить кайзера выслушать доклад до конца.
Как дипломат он поражал своей наивностью, неумением разбираться в людях, истовой верой в решающее значение личных отношений в политике, болезненным пристрастием к мелочам, категорическим нежеланием считаться с фактами и принимать во внимание действительность. Противник (равно как и союзник) всегда оказывался в его представлении гораздо глупее, чем на самом деле. Это хорошо видно по его письмам и телеграммам к Николаю II, в которых кайзер неуклюже пытался манипулировать «кузеном Ники», наделяя его сознанием коронованного идиота. «Безбожная республика, запятнанная кровью монархов, не может быть подходящей компанией для тебя… Ники, поверь моему слову, Бог проклял этот народ навеки», – такими аргументами Вильгельм думал поколебать франко-русский союз.
Другой бедой были периодически обуревавшие кайзера приступы политического красноречия. Бравурно-трескучие речи Вильгельма неприятно били по нервам иностранных правителей, дипломатов и заставляли хвататься за сердце его собственных канцлеров. Образцом несдержанности кайзеровского языка была «гуннская речь» 1900 года. Напутствуя войска, отправлявшиеся в Китай для подавления восстания ихэтуаней, Вильгельм призвал своих солдат уподобиться гуннам Аттилы, которые «тысячу лет назад обрели славу непобедимых воинов, дожившую до наших дней». Точно так же и немцы должны своей жестокостью оставить по себе в Китае такую память, «чтобы ни один китаец не посмел бросить косой взгляд на христианина». Каково после этого немецким политикам было рассуждать о «цивилизаторской миссии» Германии?
Дошло до того, что в 1908 году, когда очередное громкое выступление кайзера вызвало бурю негодования в Германии и привело к обострению отношений с Англией, рейхстаг заставил Вильгельма подписать унизительное обязательство – не создавать больше проблем стране своими публичными высказываниями.
Наследник прусских монархов, Вильгельм по традиции обожал военную атрибутику. В его гардеробе хранилось не менее трехсот мундиров немецких полков, не считая форменной одежды иностранных армий, в которой он принимал послов из соответствующих стран. К началу ХХ века Вильгельм состоял шефом трех австро-венгерских полков, трех российских, одного британского и одного португальского; он имел звание адмирала британского, шведского и датского флотов23.
Из всего этого вороха военного обмундирования кайзер наиболее ценил мундир британского адмирала. Еще охотнее он облачился бы в немецкий адмиральский мундир. Но в пору его воцарения германский флот представлял собой музей опытных образцов, по выражению самих же немецких моряков.
Вильгельм был одержим идеей сделать из Германии великую морскую державу. Сам он страстно увлекался мореплаванием несмотря на то, что страдал морской болезнью. Вопреки заветам Бисмарка, считавшего колониальные захваты бесполезным занятием, кайзер полагал, что процветание Германии связано с созданием колониальной империи – «наше будущее находится на воде». (Подобным же образом тогда думали о своих странах все европейские правительства, даже король Бельгии.) Но при мысли о том, что немцам придется вступить в морское соперничество с Англией, его охватывал ужас: «Весь наш огромный коммерческий флот, бороздящий моря и океаны под нашим флагом, – он ведь совершенно бессилен перед лицом ста тридцати британских крейсеров, которым мы можем гордо противопоставить четыре – всего четыре – наших!».
Кайзер был полон решимости изменить такое положение дел. В 1897 году во главе военного ведомства был поставлен Альфред фон Тирпиц, командующий Балтийским флотом, признанный специалист в области торпедных атак и минного дела. В следующем году рейхстаг одобрил первые громадные кредиты на «судостроительную программу». За этой программой последовала вторая (1900) и третья (1907). Морской бюджет Германской империи к началу ХХ века увеличился в 9 раз. Для пропаганды строительства военного флота была создана «Морская лига», пользовавшаяся финансовой поддержкой крупного капитала. Спустя десять лет в ее рядах насчитывался почти миллион членов24 – в основном бюргеров и рабочих, в том числе вполне сухопутных жителей Южной Германии.
У Тирпица не было иллюзий относительно возможностей Германии на море: сравняться по мощи с английским флотом в обозримом будущем она не могла. Его расчет был основан на том, чтобы увеличить силы германского флота до такого уровня, который позволил бы при любом исходе борьбы нанести тяжелые потери английскому флоту. По мысли Тирпица, это должно было отбить у англичан охоту нападать на Германию. На первых порах он полагал достаточным иметь к 1904 году 17 линейных кораблей, 9 броненосных, 26 легких крейсеров и соответствующее число мелких судов.
Вильгельм всячески подчеркивал, что строительство флота не направлено против Англии: «Наша политика – это политика мира». И в самом деле, с германской стороны это был странный шантаж с целью добиться дружбы. Состоя в родстве с английским королевским домом, Вильгельм25 стремился установить тесные союзнические отношения с Великобританией. Он искренне любил свою бабку, королеву Викторию, числил среди своих ближайших друзей дядю, принца Артура Коннаутского, и графа Лонсдейла, и его крайне обижало то обстоятельство, что англичане упорно отказывались рассматривать Германию в качестве равного партнера. «Мы приведем Англию в чувство, только создав гигантский флот, – говорил кайзер. – Когда Англия смирится с неизбежным, мы будем лучшими друзьями».
А пока что он пытался убедить английских политиков в том, что Британия и Германия политически дополняют друг друга, «sine Germania nulla salus» – без Германии (для англичан) нет спасения. Во время одного из своих приездов в Лондон Вильгельм прямо заявил: «Мы должны создать англо-германский союз, причем вы будете присматривать за морями, а мы – за сушей. При наличии такого союза ни одна мышь в Европе не сможет пискнуть без нашего соизволения…».
Вместе с тем Вильгельм время от времени делал Англии маленькие гадости для того, чтобы показать ей, что Германию лучше иметь в друзьях.
На рубеже XIX—XX веков такая политика едва не принесла плоды. В 1897 году английское правительство само обратилось к кайзеру с предложениями заключить союзный договор, которым оно намеревалось шантажировать Францию и Россию. Однако эта инициатива была отвергнута. Вильгельм посчитал, что союз будет неравноправным: «В условиях практического отсутствия у нас флота нам пришлось бы довольствоваться теми объедками, которые англичане свысока бросали бы нам. Таковы законы мировой политики и мировой экономики. В то же время на континенте мы приняли бы на себе весь риск, связанный с предназначенной для нас ролью британского меча».