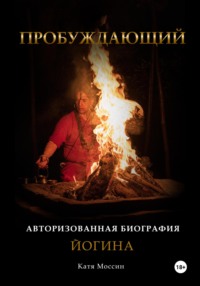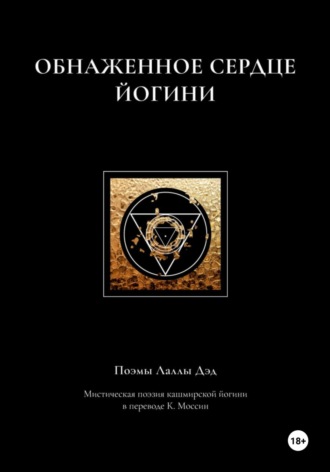
Полная версия
Обнаженное сердце йогини
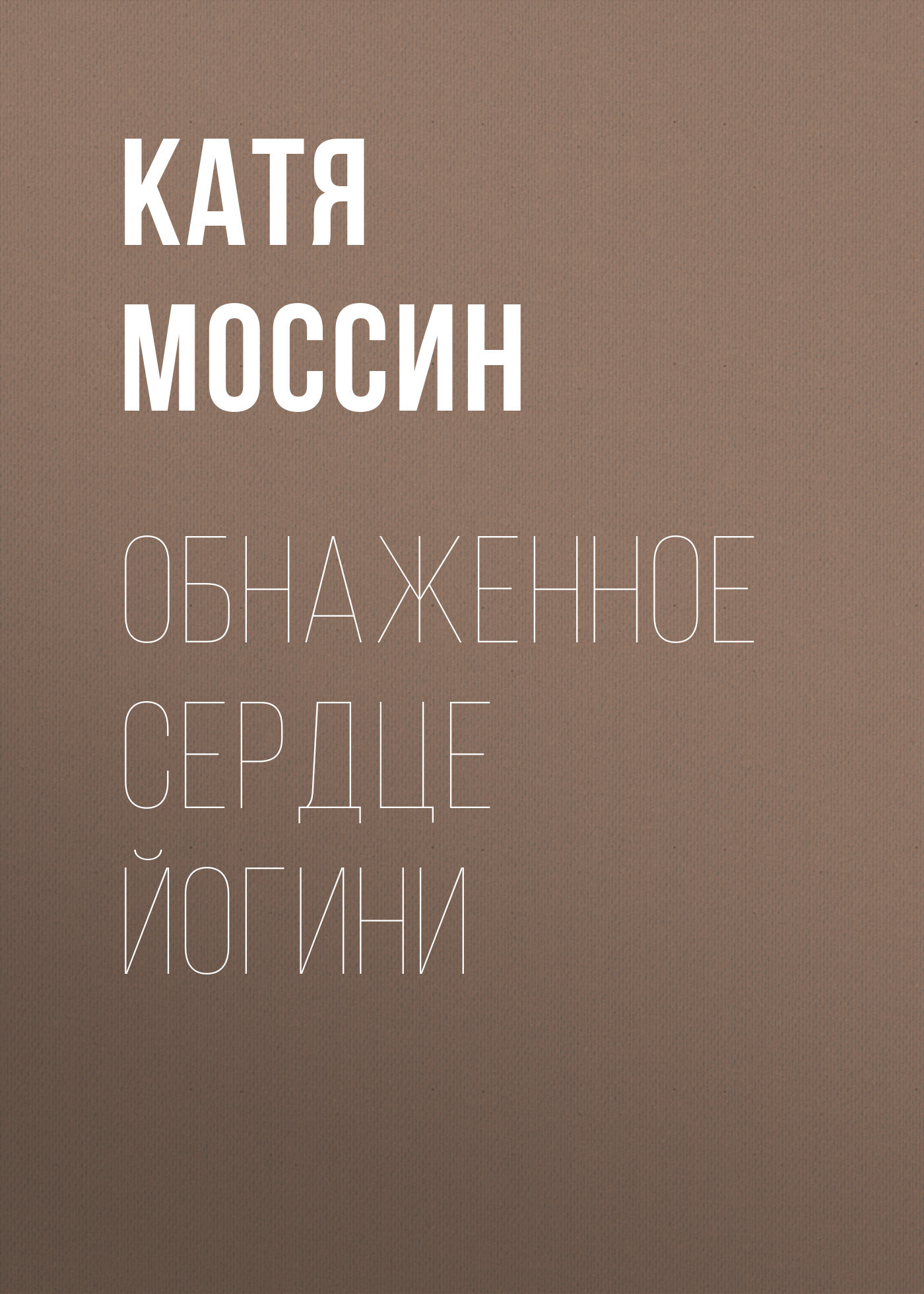
Катя Моссин
Обнаженное сердце йогини
Информация о книге
Предтеча средневековых мистиков Кашмира, Лаллешвари, известная как Лалла, Лал Дэд или Лал Арифа была шиваитской йогиней и суфийской святой. Мусульмане, хинду и буддисты, обитатели тогдашнего Кашмира, почитали мудрость подвижницы. Её мистическая поэзия (вакх, вацун или Лал Вакх) – композиции на языке кашмири, составляют важную часть кашмирского литературного и лингвистического наследия. Написанные кашмирской шиваитской йогиней несколько столетий назад, эти поэмы будут интересны тем из современников, кто практикует высшую йогу и идет по пути самореализации.
Комментарии переводчика, поясняющие тайный, «сумеречный язык» многих стихотворений, опираются на тексты Бхагавад Гиты, Шива Сутр и подготовлены на основании устных личных пояснений Пятого Гуру традиции Крийя Йоги линии Лахири Махасая – Шри Шайлендры Шармы.
Концепция, литературный перевод с кашмири и английского: Катя Моссин
Вступление и комментарии: Катя Моссин
Техническая редакция: Ирина Ефимова
Графический дизайн и оформление: Ангелина Аветисова
Благодарность
Я выражаю глубокую признательность Гуруджи Шри Шайлендре Шарме, дававшему пояснения в ходе работы над этим переводом и направляющего своих учеников на Пути йогасадханы.
Катя МоссинПредисловие
* * *
Какую б я ни делала работу —
Она служеньем Господу была.
Любое слово становилось
Молитвой, что шептала я,
И всё, что тело выносило —
Садханой Шайва Тантры было,
Мой путь к Парама Шиве осветив.
Лалла Дэд(1320–1392)Перевод с кашмири.Предтеча средневековых мистиков Кашмира, Лаллешвари, известная как Лалла, Лал Дэд или Лал Арифа была шиваитской йогиней и суфийской святой. Мусульмане, хинду и буддисты делили религиозный и культурный ландшафт тогдашнего Кашмира – и мудрость подвижницы была почитаема всеми конфессиями. Её мистическая поэзия (вакх, vatsun или Лал Вакх) – композиции на языке кашмири, составляют важную часть кашмирского литературного и лингвистического наследия. Написанные кашмирской йогиней несколько столетий назад, эти поэмы будут интересны тем из современников, кто практикует высшую йогу и идет по пути самореализации.
Лаллешвари (госпожа Лалла) родилась в 1301 году или, по другим источникам, между 1317 и 1320 годами христианской эры во времена султана Ала-уд-дина в Пандретхане (древний Пуранадхистхана), в четырёх с половиной милях от Шринагара в семье кашмирских пандитов. Другим местом ее рождения считается Семпор.
В возрасте 12 лет её выдали замуж. Новая родня в деревне Пампор переименовала ее в Падмавати, в соответствии с патриархальной традицией кашмирских пандитов, но Лалла всегда называла себя именем, данным ей при рождении.
Свекровь жестоко обращалась с ней, Лалла практически умирала от голода. Эта история сохранилась в кашмирской пословице: "Hand marytan kina hath Lalli nala-ath tsali na zanh", что переводится как "забивали ли они крупного барана или маленькую овцу, у Лаллы всегда был камень на обед" (речь идёт о том, что свекровь клала камень на тарелку Лаллы, покрывая его сверху тонким слоем риса, чтобы порция выглядела большой).
В конечном счёте нелепые жестокости обывательской жизни привели её к отречению от мира. В 26 лет она приняла санньясу и обрела свободу в духовном подвижничестве.
Что она практиковала?
До своего замужества Лалла получила образование, изучая религиозные тексты с семейным наставником, пандитом. Считается, что он и был ее Гуру до замужества, и именно к нему она пришла, порвав с семьей. Шиваитский святой, Сиддха Шрикантха (Сед Баю), принадлежавший к кашмирской шиваитской традиции трики был тем самым Гуру, к которому Лалла часто обращается в своих стихах, задавая ему вопросы и иногда даже указывая на его недостатки как духовного наставника. Впоследствии Лалла превзошла учителя в духовных достижениях и достигла самадхи, «обители нектара».
Согласно имеющимся сведениям о беседах Лаллы с Сед Баю (конечно, неподтвержденным за давностью времени), она напоминала ему об их прошлых жизнях, о которых у неё остались яркие воспоминания.
Вне всяких сомнений, Лалла была шиваитской йогиней, практиковавшей технику, весьма близкую к крийя йоге (как упоминает Йогананда в своей «Автобиографии йога»).
После получения инициации и многих лет ученичества, она отправилась в мир как бродячий аскет – и именно этому началу странствий в жестком и ортодоксальном кашмирском обществе того времени мы обязаны серией ее стихов, говорящих о насмешках, издевательствах и невзгодах. Под защитой своего Гуру она была в безопасности, но начало ее одиноких странствий изменило ее восприятие мира еще раз, после уже выпавших ей ролей дочери, жены и ученицы. Она стала изгоем, которому еще предстояла трансформация в ту святую, имя и учение которой позднее стали легендой в Кашмире и за его пределами.
Лалла Йогешвари (Великая Госпожа Йоги), сбросившая одеяния или "дигамбара" ("одетая лишь в небеса") также исповедовала нагой аскетизм, не признавая одежд. Иногда ее спрашивали о причинах ее наготы. "А почему нет? Я не вижу вокруг мужчин, – отвечала Лалла. – Не осознавший Бога не может называться мужчиной".
Для нее жизнь духа, а не плоти была по-настоящему реальной. Ни из-за желания шокировать, ни из-за самоуничижения или самобичевания в духе средневековых христианских святых, Лалла жила «потеряв» логический ум, в «прекрасном безумии», почти не осознавая тело. Не оттого, что отторгала навязываемые обществом ограничения и условности, а потому, что всем своим существом была связана с Запредельем, миром Вечного Звука Ом и изначальной Пустотой, создавшей этот физический мир и с Божественным Разумом Вселенной – сознанием Шивы.
Она обрела полную свободу от гендерных стереотипов и обуславливающих факторов, попросту отказавшись беспокоиться о том, как мир воспринимает её наготу.
Раздел Пранава и Дыхание дает представление об уровне ее йогических практик – поэтесса описывает пранаямы, бхастрики, кумбхаку, кхечари мудру, используя сумеречный язык, сандхья-бхаса, тайный диалект йогов. Предназначенный для передачи секретного знания лишь посвященным, этот "перевернутый" язык метафор и кодов использовался также для того, чтобы ввести йогина-искателя в "ситуацию парадокса", необходимую для духовного роста.
Лалле удалось донести такие метафизические понятия как Пустота, Время и священный звук Анахата Нада, описав как различные этапы пробуждения Кундалини, так и опыт познания первоэлементов.
Учение Лаллы
Единение духа и сознания как краеугольный йогический постулат бытия в сочетании с простыми человеческими ценностями и культурой той земли, которая дала жизнь человеку – вот то, чему учила Лалла, проповедуя сплав недуалистической философии шиваизма, идей буддизма и суфизм. Еще в XIII веке она проповедовала ненасилие, простоту жизни и возвышенность мышления, став Лалла Арифой для мусульман и Лаллешвари для хинду.
Невзгоды, перенесенные ею в скитаниях, закалили ее дух и избавили от последних иллюзий о бренности мира и несовершенстве общества, при этом выкристаллизовав ее бескомпромиссную преданность поискам Истины, света Абсолютного Разума и сознания Шивы – так она становится духовным наставником, учителем и советчиком.
Линия кашмирского шиваизма, к которой она принадлежала, вобрала различные философские идеи, отшлифовав и огранив Тантру, Йогу, Буддизм Йогачары (линия махаяны) и суфизм.
Лаллешвари открывала философию Шайвы для мирян, прервав кабинетную, академическую монополию пандитов и знатоков санскрита на Знание. Очень яркие и тонкие концепции и личные мистические переживания были транслированы ею через стихотворные строки на язык масс, сделав «академический шиваизм» доступными для простых людей.
Вечная дилемма мистика о том, как донести до людей неописуемый личный опыт, была решена ею с помощью общих идиом, образов и метафор, с которыми люди чувствовали повседневную и личную связь. Использование простонародного кашмирского языка и легко запоминающейся стихотворной формы сделали ее высказывания общепринятыми, обеспечив им место в коллективной памяти.
Авторитет её словам придавало и то, что она описывала личный опыт познания запредельной реальности, прямые отношения с самим Господом Шивой. Её имя стоит на первом месте в длинном списке святых, проповедовавших средневековый мистицизм, впоследствии распространившийся по всей Индии. Следует обосновать это заявление: учение Рамананды и пришедших после него подвижников не могло повлиять на мировоззрение Лаллы, поскольку Рамананда жил между 1400 и 1470 годами. Кабир пел свои знаменитые двустишия (доха) между 1440 и 1518 годами, Гуру Нанак пришёл в мир между 1469 и 1538 годами. Тулсидас не был воплощён в теле до 1532 года, а Мира Баи почтила нас своим земным присутствием гораздо позже.
Предание гласит, что святая сама определила день оставления тела. Впервые за годы блужданий нагой, она облачилась в красное сари невесты и шагнула в огонь. Так, совершив высшее ритуальное самосожжение-сати, джива-душа Лаллы обручилась с Шивой, и святая дематериализовалась в огне. В этот же день она предстала невредимой перед скорбящими горожанами, одетая в золотые одежды. Полагают, что она оставила тело в 1373 году, но никаких данных о том, где именно находится ее самадхи (место кремации) не сохранилось. Мемориальное захоронение в Биджбехаре относится к гораздо более позднему периоду.
Литературное наследие
Около 270 лет назад, пандит Бхаскар Раздан, дед пандита Манаса Раздана, знаменитого кашмирского отшельника Кашмира, собрал шестьдесят высказываний Лал Дэд. Следующая подборка из 140 высказываний, включившая в том числе и те 60, собранные пандитом Бхаскаром Разданом, была сделана пандитом Лакшман Каком, еще одним святым, жившим примерно в 1865 году. В 1850 году другой ученый пандит Пракаш Кокилу написал комментарий о четырех вакх Лаллы. Так начиналась известность этой поэтессы в религиозных, а затем в академических и литературоведческих кругах тогдашнего Кашмира.
В 1914 году сэр Джордж Гриерсон, первый суперинтендант Индийского Лингвистического Исследовательского департамента попросил своего бывшего коллегу Пандита Мукунда Рама Шастри разыскать рукопись стихов Лаллы. Не обнаружив рукописей, тот обратился к Пандиту Дхарма-даса Дарвеш, который надиктовал по памяти 109 поэм. Гриерсон сравнил тексты с двумя Кашмирскими рукописями, хранившимися в Оксфордском Индийском Институте, бывшими частью коллекции, собранной легендарным венгерско-британским исследователем Марком Аурелием Штерном. Так в 1920 году был опубликован первый английский перевод поэм Лаллы под названием "Лалла-вакьяни или Мудрые изречения Лаллы Дэд, поэтессы-мистика древнего Кашмира".
Сегодня ее стихи переведены на много языков и опубликованы в США, Европе и Азии.
Стихотворный размер и стиль
Лалла Вакьяни (высказывания Лаллы) составлены на старом кашмири, который как отдельный язык намного старше того времени, в которое жила и творила Лалла. Тот факт, что они были переданы из уст в уста, предполагает, что сам язык незаметно менялся из поколения в поколение, и форма стихов менялась вместе с ним. Но тем не менее уважение к авторской форме ее стихов сохранило множество архаичных форм и выражений.
В древнем Кашмире существовали две различные метрические системы для поэтических произведений. Одна – для официальных, эпических стихов, где, как и в персидском стихотворном размере, характерном и для суфийской поэтической школы, используется ритм Bahar-e-Hajaj; другая система обычно использовалась в песнетворчестве, при написании стихов (как и Лалла вакх), в которых поэтический размер зависит исключительно от ударного акцента. Эта система отнюдь не так проста. Данный перевод ставил задачу транслировать смысловой, а не фонетический акцент произведений, и поэтому размерность стихотворного слога устанавливалась в русском переводе смысловым содержанием.
Женщина силы
Любая женщина-йогиня несет в себе силу Шакти, творческую энергию; заряд изначальной созидающей силы Лаллешвари, укрепленный ее аскезой, отразился в потоке мистической поэзии, установив новые планки культурной, языковой, социальной и религиозной трансформации тогдашнего кашмирского общества.
Она общалась с наиболее образованными учеными-мужчинами своего времени на равных, в их диалогах не было и следа гендерного неравенства, её словарный запас и разговорный стиль были под стать диалекту обычного человека. В творчестве Лаллы не было места элитарному, брахманическому выбору слов, фраз или метафор – все они взяты из словаря женщины-домохозяйки, хотя сама Лалла покинула и брак, и дом. Её поэзия передает поток силы йогини, в процессе своего повествования дающей голос всем тем, кто ищет Истину.
Древние мистики знали, насколько трудно передать обывателю трансцендентальные переживания без того, чтобы не прослыть колдунами или безумцами. Используя сумеречный язык в своих поэмах, обращенных к ученикам и искателям, Лаллешвари передает суть глубинных переживаний в йогасадхане тем, кто уже стоит на этом пути.
Осведомлённая о заботах и страданиях души-дживы, поэтесса-йогиня говорит о способах их преодоления в ходе духовной эволюции. С мирянами поэтесса общается прямым и доступным им языком, применяя понятные образы и метафоры, побуждая осмысление смысла человеческого бытия и напоминая о вечном присутствии Божественного в каждой песчинке.
Очистившая сознание огнём йогической практики и познавшая природу человеческой сущности, Лаллешвари и сегодня открывает сердца силой своих поэтических строк.
Я, ЛАЛЛА
* * *За тонкую бечевку несвитого волокнаТяну я свою лодку через море.Мною повторенные молитвыУслышит ли Господь?Перенесёт ли на берег другой?В чашу из необожженной глиныВода течет;Кружась и проливаясь, льётсяМоя ошеломлённая душа,Чтоб медленно сосуд заполнить и растаять…О, с какой охотойДостигну этой цели я.Переплыть океан сансары в судне человеческого тела и достичь другого берега удается не каждому. Тело подобно глиняной чаше, не способной без обжига (йогической садханы) удерживать нектар души. Пересечение на другой берег океана сансары – задача каждого воплощенного существа.
* * *Я видела – от голода отшельник умирал,Я видела – осенний лист на землю пал.Я видела – дурак кухарку билЗа то, что вкус у пищи постный был…С тех пор я жду прихода дня,Когда любви разрежут пуповинуК безумью мира привязавшую меня —И я смогу смахнуть самсары паутину.Необъяснимые жестокости и несправедливости, преходящая и неустойчивая природа земного бытия подчас невыносимы – и все же Лалла говорит о любви, связывающей ее с этим миром. Оборвав привязанность ко всему мирскому, йогиня стремится избавиться от пелены майи, но в поздних своих произведениях она уже не тяготится миром, становясь невовлеченным наблюдателем.
* * *Нечистоту ума в огне спалив,Нож в сердце, повернув, вонзила,И край одежды ветхой подоткнув,У входа в дом Его колени преклонила.С тех пор из уст в уста передавалиМое земное имя – Лалли.Практически все стихи Лаллы автобиографичны; рассказывая о духовном путешествии, в этой поэме она описывает очищение сознания и принятие своей участи – смирения в ожидании дара просветления у дверей истинного "Я". Только пройдя подобные метаморфозы, она становится известной как Лаллешвари, госпожой Лаллой.
* * *Хотя не верила ни слову – ноЯ собственного голоса виноГлотками медленными выпила до днаИ бросившись на битву с тьмойГнездившейся во мне самой —Повергнув ее, в клочья порвала.Сомневаясь в их силе, Лалла все же "испивает вино" собственных поэтических слов. Именно они дают ей решимость противостоять демонам, живущим в сумерках души. Выбранные метафоры описывают борьбу c тамасом, гуной омрачения, и уничтожение тьмы разума.
* * *Танцуй, обнаженная, в воздух одетая Лалла.Пой, Лалла, носящая лишь небеса – покрывала.Взгляните на это сияние вечного дня —Какие одежды священнее света, в который укутана я?Помимо термина digambara (одетый в небеса), применяемого к святым, существует и слово nagna «голый, нагой». В женском роде nagnā обозначает бесстыдную или безнравственную женщину – этим словом в начале ее садханы обыватели наверняка называли Лаллу.
Нагая женщина – олицетворение первозданной Шакти, ее обнаженное тело символизирует лишение индивидуальности, абсолютную женственность вечной Богини. Но нагота Лаллы носила другой характер: она убирала все барьеры в своем соединении с Абсолютом – она была всем, во всем, и все было в ней. Эпатаж или сексуальность не имели ничего общего с тем, как Лалла манифестировала себя миру и мир через себя. Священные тексты подчеркивают, что сама по себе нагота, как и другие внешние проявления садханы (обмазывание пеплом, питание травой, листьями и плодами, омовение в водах Ганги и др.), не является фактором, ведущим к освобождению: "Ослы и иные [животные], для которых лес подобен дому, ходят везде обнаженными без всякого стыда. Становятся ли они йогинами [благодаря этому]?" [Куларнава Тантра: 139].
* * *Лалла знает – последнее сердца биеньеОтлетит как подкова с копыта коня.Лебедь пленный дыханьяПомедлит мгновеньеИ покинет гнездоДля объятий огня.Хамса – лебедь или дыхание жизни, Прана, удерживается в человеческом теле Апаной. Снова и снова Апана притягивает Прану, заставляя дыхание длиться. В момент смерти Апана освобождает пленную Прану и лебедь дыхания покидает гнездо тела. В момент кремации тела три грубых элемента из пяти, составляющих человеческое тело, уничтожаются (это элементы земли, воды, огня). Воздушный и эфирный элементы образуют новое астральное тело, которое и дает новое убежище сознанию и душе.
* * *Через калитку в тайный садПо воле собственной попалаЯ, Лалла.Там Шакти Шиву обнимала —И с ликованием узрела диво я.Там же и тогдаЯ погрузилась в Озеро Нектара,И из него пила.И там же и тогдаНеуязвимой для вредаЯ, Лалла, стала.И умерев для мира,Ожила.В одной из своих самых прекрасных поэм Лалла сравнивает собственный ум с тайным садом, куда она, наконец, смогла проникнуть, благодаря йогической садхане. Сцена, представшая в ее сознании – не галлюцинация или вымысел, а кульминационный момент тантрической философии и наивысший личный опыт преодоления двойственности, вознесение в состояние трансцендентности, запредельности – метафорически это передано как созерцание слияния Шивы и Шакти. Потрясенный увиденным, разум выходит за границы жизни и смерти, погружаясь в озеро нектара, воды бессмертия, amrita-saras. Так начинается истинная жизнь духа.
* * *Коснулся Сиддханатх очей слепых —Вокруг Немыслимое увидела,Исчезли катаракты с глаз моих.В себе себя нашла и бога отыскалаВо всем вокруг я, Лалла.Так слепота была исцелена,И так развеялись сомненья.Куда бы не смотрела – всем была…О Лалли! – Это истинное зренье.Прозрение, наступившее в результате йогической садханы и аскетизма, можно сравнить с тем ощущением, когда в темной комнате внезапно загорается свет. Внезапное откровение истины может прийти в результате благословения гуру гуру крипа, шактипата, нисхождения божественной силы или в результате собственных бескомпромиссных усилий под руководством Наставника. Можно предположить, что Лалла испытала все три способа реализации адептов каулы в кашмирском шиваизме.
* * *Я, Лалла,Лишь вперед шагала,Надеялась открыться,Словно хлопковый цветок.Но зубья барабана отделялиМои волокна от семян,Бросая на лоток.Скрутил прядильщик в пряжу,Ткач повесил на станок,А мойщик бил о камни,Опуская в ледяной поток…Путь к достиженьюВысшего СознанияПомогли найтиМне ножницы портного.Спонтанное раскрытие, подобное распускающемуся цветку и, как результат, обретение прямого знания о Творении и Творце – то, на что надеется йогиня в начале своего пути. Мистики называют это состоянием сахадж (sahaz на кашмири) – спонтанным откровением. Это осознание как собственной природы, так и реальности, сокрытой иллюзорным миром. Но это состояние не всегда достигается с легкостью эго, персонификация, мирская, социальная маска должны быть отшелушены от ядра истинной личности. И метафора обработки пряжи, с последующим превращением ее в ткань, а затем в одежду проводит параллели со стадиями трансформации личности йогина.
* * *Задолго перед смертью пнув ведро,Я, Лалла, обожание в груди смирила,У родника с водою истины бродилаУтратив самое себя, блуждала,Подсказки, данной мне, не узнавала.Но с наслаждением реальность разглядев,Глубинное своё в себе я осознала.Метафорическое выражение "пнуть ведро" обозначает смерть – поэтесса говорит о том, что уже при жизни смогла умертвить свое эго и мирские желания. Видеть истину бытия трудно, так как очевидное не очевидно, подобно очкам на лбу, которые разыскивает носящая их старушка… Но для того, чтобы по-настоящему найти что-либо, надо сначала потерять и осознать утраченное. Так, утратив привычную самость, йогиня осознает себя заново, узнав новую реальность мира, с которого спадают покровы майи. Различение не глазами, а сердцем – еще одно из качеств, которые развиваются в ходе практик высшей йоги.
* * *Пожухла, как трава,Ища Его повсюду, Лалла.Но сил собравши,Поиск продолжала.Когда же наконецОна достигла цели —Закрыты были двери.Но любопытство лишь росло,И у ворот она присела —Ждать Его…Высший Атман, сам Шива, свое собственное "Я" – читатель волен трактовать поиски йогини по-своему. Одно остается неизменным – описания трудности пути к Нему. И достигнув входа в Непознанное, иногда приходится ждать еще несколько жизней, чтобы познать Его.
* * *Муж:Нет ярче сияния солнца,Нет для паломника лучше дороги, чем к Ганге,Нет ближе, чем брат, никого,И никто, как жена, не утешит.Сиддха Мол:Нет ярче сияния глаз,Нет достойней для странника места,Чем его же колени.Ближе нет ничего, чем свои же карманыИ нет утешения слаще, чем одеяла объятья.Лалла:Нет света лучше света знаньяО Брахме-мысли, о Творце.Ни с чем паломничество к Богу не сравнимо.И никтоНе сможет быть Его дороже.Нет утешенья другого,Чем трепетПеред Ним.Одна из легенд рассказывает, что муж Лаллы пришел к её Гуру, прося убедить её вернуться домой. Они оба пришли к Лалле; между ними и произошел вышеизложенный диалог. Патриархальное, обывательское мышление мужа, практические рассуждения Гуру и высшая мудрость йогини, чьи слова полны искренности и силы намерения продолжать свой путь.
* * *Я заслужила всё:И шутки, и сарказм,И поругание, и справедливость,Глаз незрячих судилищеИ глухоту толпы.Но тронул голос ГосподаМое сознанье!Теперь моя лампадаСияет даже в ярости грозы* * *Откармливай пять Бхут зерном желанья,Преподнося им сласть Сознанья.Затем отдай баранов этих Богу —Так ты найдёшь в Обитель Высшего дорогу.Благочестивые обряды навсегдаУтратят свою власть,А ритуалов куламарги сластьНе причинит вреда.* * *Встань, госпожа, готовься к поклоненьюСластями, плотью и вином.Узревшая Парамашиву во всем,Бери дары, вкушай их с теми, кто тантрою влеком.И если слово тайное ты знаешьДля входа в Запредельный мирТо мудрость ты приобретаешь,Запреты все переступив.В одной из версий этого стихотворения последние строки говорят о проведении тантрического ритуала: