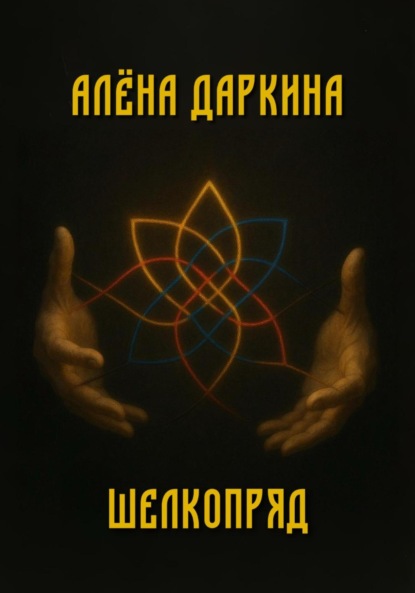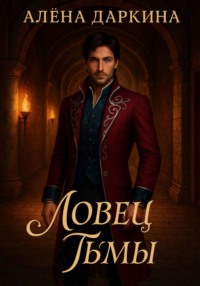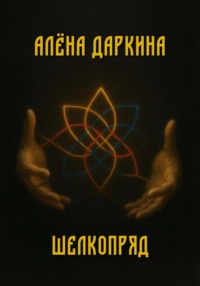Полная версия
Ругару
Берта лукаво засмеялась, потягиваясь на сене.
– Майку потерял? А я знаю, где она. Поцелуешь – скажу!
Солнечные зайчики скользили по ее смуглой обнаженной коже. Само совершенство! Он притворно сдался, нагнулся к ней, но целомудренно поцеловал в лоб.
– Честное слово, не могу. Председатель башку оторвет, – умоляюще прошептал он.
Волчица схватила его за плечи, швырнула на сено, села верхом.
– Пятнадцать минут! – настойчиво заявила она.
Но тут Лешка краем глаза заметил белую майку, ловко вывернулся и, на ходу натягивая ее, буквально удрал от девицы. Не оглядываясь, выскочил из сарая, запрыгнул в грузовик и дал по газам. Благо машина его слушалась, от одного прикосновения заводилась.
– Давай, родимая! – уговаривал он, выворачивая руль на ухабах.
Навстречу попался другой грузовик, с зерном. Никита – мужик на десять лет старше его, растивший троих ребятишек, – посигналил, а потом высунулся в окно, проорав, не сбавляя скорости:
– Лешка, сдурел? Один выговор не сняли, ты опять за свое! Устиныч там кипятком ссыт. Вечером к себе вызывает.
Последние слова раздались уже издалека.
– Вот и провели вечер вместе, лапушка. Предупреждал же!.. – бормотал Лекс, вжимая педаль в пол.
Весь день он работал как одержимый. Возил зерно, помогал грузить машину, чтобы быстрее дело шло, снова садился за руль. Без обеда. К закату он если и отставал от Никиты, то лишь на одну ходку. Но от публичного унижения его это не спасло. Публичного, потому что вечером Устиныч пригласил в контору не только его, но и маму с батяней, и братьев-близнецов, и даже сестренку Танюшку. Рассадил их на скамеечке вдоль стены под портретами «слуг народа» – центрального комитета народной партии. Генерального секретаря повесили отдельно: огромный поясной портрет грозно нависал над Устинычем, и сам председатель колхоза казался его миниатюрной копией, возвышаясь над дешевеньким, но массивным полированным столом, заваленным бумагами.
Лекс замер на пороге, а Устиныч замахал рукой, смешно топорща густые усы:
– Заходи, заходи! Одного тебя ждем.
Леша шагнул внутрь, покраснел, уставился в вытертую красную дорожку. Он заметил, что мама укоризненно поджимает губы, отец злится, братья злорадно ухмыляются. Сестра тоже полна упрека – вылитая мама.
– Вот скажи мне, Леха, когда это прекратится? – завелся Устиныч, что Лешкин грузовик, с пол-оборота. – Не только мне, всему семейству своему скажи, которое горбатится на благо трудового народа, пока ты на сеновале кувыркаешься. Когда это прекратится?
– Устиныч, давай я Таню домой отведу, – услышав слово «кувыркаешься», тут же ожила мама. – Разберитесь тут, по-мужски.
– Нечего! – отрезал председатель. – Ей, слава богу, уже шестнадцать. Прекрасно всё знает. А не знает, так скоро узнает. Я вот хочу, чтобы он всем в глаза посмотрел, – Леша упорно рассматривал ковер. – Молчишь, партизан? Сказать нечего?
– Я ему щас язык развяжу! – отец вскочил, словно гора со скамейки встала, рукава закатал.
Лешка был бы рад получить сейчас от бати затрещину. Рука у него тяжелая – мигом бы дух вышиб. Убить бы не убил, но с сотрясением мозга повалялся бы. И он на это готов! Всё, что угодно, только не слышать, как его стыдят при семье.
Однако Устиныча такой поворот не устраивал. И действительно: а зерно-то кто будет возить эти два дня?
– Сядь, Коля, – осадил он и снова надвинулся на Лешку. Председатель напоминал усатого таракана из детской сказки. Но сейчас было не до смеха. – Ты мне вот скажи, ты с кем в сарае кувыркался? С Бертой-шалавой из «Серого брата»?
– Так уж и шалава… – не выдержал Лешка.
– Устиныч, я отведу детей? – снова вступила мама.
– Сидеть! – рявкнул председатель. – Я не пойму, тебе что, наших девок мало?
– Ну, это ты зря, Устиныч… – сокрушенно покачал головой отец. – Что ж он, наших девок портить будет?
– А ты скажи, что он их не портит! – ядовито процедил председатель. – Вымахал вон, орясина с симпатичной мордашкой! В кого только такой?
«Про Аньку узнал? Поэтому буянит? Так я вроде не первый…» – мелькнуло у Лешки. Анька была дочерью Устиныча.
– Так! – мама решительно встала. – Танюшка и вы, охламоны, марш домой.
Таня сразу к двери направилась, братцев пришлось подгонять подзатыльниками. Председатель на этот раз ее не останавливал. Он точно знал, когда можно прикрикнуть, а когда разъяренной женщине под руку лучше не попадаться. Он выждал паузу, чтобы перемещения по кабинету не мешали его патетической речи, а как только дверь закрылась, продолжил с прежней яростью:
– Ты хоть понимаешь, что мы с «Серым братом» соревнуемся? Ты что, полагаешь, эта шалава просто так с тобой связалась? Вы с ней потрахушками занимались, а теперь мы отстаем в уборке! Ты это можешь вбить в свою тупую башку?
– Так она специально?! – взревел батяня.
– Ну чего ты, Устиныч, – замямлил Леша. – Ну чего мы там отстаем? Я ж почти нагнал. А ежели что…
«Будет волчица со мной связываться, если я ей не понравился, как же! – думал он про себя. – Ну, может, и хотела задержать, не без того, но чего уж во всех прямо диверсантов подозревать…»
– Ежели что, сладкий мой, – вновь взревел председатель, – будет тебе еще один выговор, и отправишься ты у меня на передовую с автоматом наперевес! Вот сейчас, при твоем отце клянусь. Наблюдателей в свидетели позову! Если мы проиграем соревнование, ты отправишься на войну! «Ежели что…»! – передразнил он Лешку. – Ты же не сможешь машину водить измененный! Бабы и так за троих работают, а толку что, если машины всего две. Они ж с мешками не помчатся до элеватора. В общем, ты меня понял, – Устиныч наконец остыл. – Дуй отсюда, балбес!
Лешка тут же выскочил за дверь. В кабинете топтался отец.
– Ну, ты извини, Устиныч… – угроза насчет передовой всерьез его напугала. Да и кого бы не напугала? Лешку самого трясет. – Я с ним дома тоже побеседую. Молодой он, глупый.
– Побеседуй, побеседуй, – хмуро разрешил председатель, шелестя бумагами. – Только без рукоприкладства. Он мне нужен живой и здоровый.
Не сказал, что армией пугал просто. Значит, не пугал. Хотя справедливо. Кто проиграл соревнование, тот и отправляет «добровольца». И кому, как не Лехе, стать этим самым «добровольцем», если он уже схлопотал выговор за неположенные разговоры. Один-единственный раз хлебнул водяры и брякнул: кому, мол, нужна эта война? Чем им досадили эти эльфы? Вот лично ему, Лехе, они ни капельки не мешают. А утром в дверь милиция постучала. Утюжили его тогда трое суток. Ногами и инструментами всякими. Только чего ему сделается? Зажило точно на собачке, даже шрамов не осталось. А в стране закон: за три дня не сознался – отделался выговором. Ну, а с двумя выговорами сразу на передовую. Лешка после этого с водкой завязал. Пиво или там вино по праздникам позволял себе, но и то немного. А более крепкое и вовсе не брал. Теперь вот и с девчонками из соседних колхозов придется завязывать. По крайней мере до окончания страды.
Вообще, Устиныч кругом прав. Их колхоз, «Волчья пасть», ни разу не проигрывал. Только не потому, что они тут трудолюбивые сплошь. Но в их регионе пять колхозов: «Серый брат», где живут волки-оборотни, «Тихий омут» с болотниками 8 , «Пещера сокровищ» с гоблинами и «Птица рассвета» с такими же ругару 9 , как в «Волчьей пасти», но при изменении получающих голову белого петуха. И с кем, скажите, соревноваться? Равны им по силе только ругару и волки-оборотни. Но, когда время поджимает, только в «Волчьей пасти» могут воспользоваться преимуществами своей природы. Лешка, и без того не маленького роста, вырастал сразу под два с половиной метра, а уж силищи в этой горе мышц вообще немерено. В таком состоянии десять машин загрузишь и глазом не моргнешь. Но восстанавливаться потом долго. После такого рывка, у них неделю все болели, а некоторые в реабилитационный центр попадали. Оборотни после изменения не болели, но и помочь им это ничем не могло. Вы представляете волка с лопатой или за рулем? Вот то-то и оно. Хотя измененного ругару за рулем тоже не найдешь. Он элементарно там не помещается – кабинка слишком маленькая.
В общем, «добровольцы» на фронт уходили по очереди из четырех соседних колхозов, а «Волчья пасть» ждала всеобщего призыва, который на каждый колхоз выпадал раз в десять лет. Тогда забирали и парней, и девушек от 20 до 25 лет. Всех без разбора. У них два года назад так всех забрали и через восемь лет опять придут. Так что их семью эта доля минует. Война, она, конечно, дело такое… Отстоять рубежи и прочая байда… Только вот если попадешь на фронт, то минимум на десять лет – лишь через этот срок можно уволиться в запас. Но за десять лет так крышу сносит, что никто почти и не возвращается. Одни погибают, другие в домах инвалидов оседают, а третьи не могут жить без войны. Так и сражаются до конца жизни.
Он уныло брел по деревенской улице. В густых сумерках крепкие просторные дома щеголяли побелкой. Низенький заборчик – только для того, чтобы символически отделить территорию, – нисколько не скрывал дворы. Повсюду чистота и порядок. Окна светятся желтым, хвастаясь яркими занавесками. Красота. На фронте такого не бывает. Лешку нагнал отец. Тяжелая рука легла на плечо, притянула к себе.
– Допрыгался, орясина? – недовольно буркнул батя. – Устиныч и слышать ничего не хочет. Я даже денег предлагал… Зачем ты с Анькой-то?
«Про волчицу ни слова… – хмыкнул Леша про себя. – Сам небось…»
– Ничего не допрыгался, – вяло огрызнулся он. – А Аньке как я откажу? Жалко же девчонку.
Аньке во время всеобщей мобилизации как раз исполнилось двадцать лет – она старше Лешки на два года, поэтому на фронт и попала. Вернулась через полгода – попала под отражающую защиту эльфов, половину тела будто оплавило: и лицо, и правую кисть, оставив только культю без пальцев, а ступню спалило полностью. В дом инвалидов не взяли – недостаточно изуродована. Левая рука работает, да и ноги ходят. Что тут такого – малюсенький протез. Выбор был невелик: пройти реабилитацию и снова встать в строй или позволить себя комиссовать. Возвращаться в таком виде в родной колхоз ей не хотелось, но опять столкнуться с эльфами оказалось страшнее.
Отец вздохнул.
– Добрый ты у меня. Весь в мать.
– Не… – запротестовал Лешка. – Мама добрее.
И с удовольствием вспомнил, как она скалкой выводила батю из очередного запоя.
Папино наследство
Покинув отделение, Зинаида снова оглянулась. Медленно пошла к остановке и, уже садясь в маршрутку, возликовала: сработало! Будет полиция расследовать ее заявление или не будет – неважно. Она напугала преследователей одной решимостью.
Вдохновленная одержанной победой, она шла домой, чуть ли не подпрыгивая, словно девочка. И неожиданно всплыло в памяти письмо отца. Что‑то там было, какое-то предупреждение…
По правде говоря, отца она ни разу в жизни не видела. Сколько себя помнила, они жили с мамой вдвоем. Лет до пятнадцати выпытывала у матери хоть какие-то сведения о том, кто в свидетельстве о рождении значился как Ягишев Влас Федорович. Но та не желала о бывшем муже говорить, ничем было ее не пронять. А в семнадцать лет пришел к Зине нотариус и сообщил, что согласно завещанию девушка наследует имущество некоего Радима Чеславовича Харина, ибо по признанию последнего приходится ему родной дочерью.
Наследство оказалось крошечным: бумажечка с цифрами, которые, по мнению нотариуса, были номером и шифром камеры хранения на железнодорожной станции. Вот только неизвестно на какой. Девушка отправилась на поиски.
Объехала несколько вокзалов, прежде чем нашла нужный. В те годы камеры хранения были повсюду. Начала со станции Волгоград I в центре, безумно волновалась. То представляла себе коробку, набитую деньгами, то, умеряя пыл, всего лишь старинное кольцо с бриллиантом. Но дверца открылась только в Ельшанке, и за ней ожидал всего лишь бронзовый медальон на сером шелковом шнурке размером с трехкопеечную монету10. Зина определила, что это бронза, потому что цветом он был как медь, но более прочный. На той и другой стороне кругляшки вились латинские буквы – одни по кругу, другие в центре. Но школьный учитель иностранного языка перевести надпись не смог.
Кроме медальона в камере хранения лежало письмо отца. Радим писал, что всегда скучал по ней, но не мог, не имел права быть рядом. Даже не имел права показать, что знаком с ней, потому что это было бы опасно и для нее, и для матери. Но теперь, когда он погиб, всё это не имеет значения, поэтому он открылся. Он писал, как сильно ее любит, как сильно тосковал по ней. И раз уж он не мог быть рядом при жизни, пусть после смерти с ней останется его медальон.
Зинаида тут же вообразила себе всё, что в письме осталось недосказанным. Папа, конечно, был шпионом, выполнял секретные задания для КГБ. Преступники охотились не только за ним, но поклялись уничтожить всех, кого он любит. Вот и пришлось ему покинуть семью. Разве это так уж невероятно? Папа просил не рассказывать матери об этом внезапном открытии. Мол, она его уже забыла и не стоит ее тревожить (мама к тому времени пять лет как вышла замуж). Зина надела медальон на шею, и когда дома спрашивали, откуда она взяла эту старинную штучку, – письмена на новом талисмане смущали всех – она только принимала загадочный вид.
Но было в письме отца еще что-то. Нечто непонятное, во что она даже не вчитывалась. Теперь оно зудело, требуя выхода. Надо перечитать, чтобы освежить в памяти.
Едва Зинаида открыла дверь в квартиру, на нее дохнуло таким смрадом курева, что чуть не сшибло с ног. Быстро пристроив шлепки на самодельную подставку для обуви, она вошла в комнату. На деревянных полах слезла краска, когда-то ярко-желтые обои выцвели, стали невразумительно бежевыми. Хорошо, что их хоть немного прикрывал трехстворчатый шкаф и ковер, полученные в наследство от бабушки. Тогда вещи на совесть делали: крепкий шкаф не один переезд выдержит, а ковер для моли был слишком натуральным. Моль нынче больше синтетику уважает. Кровать в нише и диван напротив старенького телевизора доживали последние годы. Диван уже не раскладывался, и, устраиваясь на узкой половинке, Зина каждый раз боялась, что одна из пружин воткнется в бок. У окна, закрывая батарею, стояла тумба от старой швейной машинки. Когда-то Зина шила на ней ползунки и чепчики сыну. Теперь же машинку убрали внутрь – удобная конструкция, – а сверху поставили компьютер. За ним и сидел Богдан. И, конечно, курил.
– Да что же это такое! – возмутилась она в согбенную спину. – Лето на улице! Неужели нельзя хотя бы на балкон выйти покурить? Как же спать в этом можно? Я же задыхаюсь, сто раз говорила!
– Не ори, – отозвался Богдан, не поворачивая головы. – Жрать принесла?
– На работу устроился? – привычно начала она перепалку. – Вот как устроишься, так и купишь себе пожрать. А моей зарплаты хватает только квартиру снять и до работы доехать. И на хлеб.
– Ты чего на меня орешь? – он угрожающе сдвинул брови. – Весь день голодный сижу.
– Мог бы картошку сварить. Или хотя бы посуду помыть. Сколько же можно, в конце концов?
– Мать, не зли меня!
– Сам не зли…
Они могли так ругаться часами: сначала на повышенных тонах, потом сын начинал кричать матом, а она подхватывала. Затем он бил посуду или портил ее вещи… Особенно если требовал денег. В результате она давала всё, что ему нужно, кормила и снова увещевала, глядя, как он за один присест уминает кастрюлю плова: «Богдан, ну сколько же можно? Сходи хоть в “Ман” грузчиком устройся, хоть какая-то копейка. Я ж ничего забирать не буду, но хоть с меня тянуть перестанешь на сигареты, презервативы и подарки девушке…» Он обещал, что завтра же пойдет. И даже плел небылицы, что устроился, просил деньги на обед в счет зарплаты. Позже оказывалось, что сидел дома, никуда не ходил. И всё начиналось по новой. А куда деваться? Единственное родное существо. Не выставишь же на улицу.
Сегодня у нее не было сил спорить. Отдернув старенькие ситцевые шторы, она поставила возле балконной двери вентилятор и отправилась за отцовским письмом. Где-то на антресолях оно хранилось.
Бодро поставила табуретку, забралась на нее, потянула на себя картонную коробку, перемотанную скотчем, и тут же поняла, что не удержит ее.
– Богдан, помоги!
– Чего там у тебя? – быстрый взгляд через плечо и ленивый ответ: – Сама справляйся, не переломишься. Меня тут убьют сейчас.
– Богдан, ну суставы же болят! Три килограмма удержать на весу не могу. Подержи, тут секунда буквально.
– Вот как жрать сготовишь, тогда помогу.
– Да сейчас сготовлю! Вот коробку сниму и сразу пойду готовить. Помоги!
Ей пришлось канючить еще минут пять, изнывая от боли в кистях – не хватало сил ни снять, ни поставить обратно.
– Да зае…а ты меня уже! – психанул сын, взлетел на табуретку рядом, снял ящик и с грохотом бухнул его на пол. Жалобно звякнула посуда. – Жрать уже готовь иди! Хватит х…й страдать!
– Ты посуду разбил, наверно! – со слезами завопила она, склоняясь над коробкой. – Ты в дом нитки не купил, а всё колотишь!
– Как ты меня достала! – процедил Богдан зло и снова уселся за комп.
Зина быстро открыла ящик. У них не было серванта. Всю приличную посуду она убрала на антресоли («Жениться надумает – хоть что-то ему выделить смогу»). К счастью, тарелки не пострадали. Настроение сразу поднялось. Она на всякий случай переложила их газеткой («Обратно будет ставить, опять грохнет, ума хватит»), вытащила то, что ей нужно, и ногой отодвинула ящик к стене, чтобы не спотыкаться об него. Всё равно пока Богдан не поест, не уговоришь его на место убрать.
На кухне у них тоже вещей почти не было. Один шкафчик с сушкой, раскладной стол, плита и раковина. Из‑под встроенного шкафчика она взяла десяток картофелин, быстро счистила отростки – молодую картошку они позволить себе не могли – и бросила их в мусорку. Картошку – в раковину. Включила воду – пусть грязь отмокает. А сама, вытерев руки, открыла шкатулку.
Шкатулка – это громко сказано. Металлическая коробочка – в детстве в таких продавали круглые разноцветные леденцы. Зина не знала, сколько они стоили. Наверно, дорого, раз мама ни разу их не купила. За всё детство она не попробовала ни одной штучки, а потом и вовсе исчезли они из магазинов (хотя недавно девчонки на работе утверждали, что сейчас всё можно купить, были бы деньги). Много лет назад коробочку она приметила в мусорном ведре у соседки. Тогда возле домов не стояли мусорные ящики, как сейчас. В восемь часов вечера приезжал мусоровоз, и жители окрестных домов по очереди вываливали в его кузов мусор. Важно было не опоздать – следующий мусоровоз приедет только через сутки. Поэтому люди приходили заранее, сидели на лавочках, на хлипких оградках, прямо на траве в тени деревьев. Переговаривались. Дети играли. Во время игры она и приглядела коробочку. Первой мыслью было – забрать потихоньку, пока никто не обращает внимания. Но тут же сообразила: много народа, кто-нибудь да заметит. Пока она набиралась мужества, чтобы попросить у соседки ненужную вещь, подъехал мусоровоз, и девочка, испуганная тем, что такая замечательная шкатулочка от нее ускользнет, заспешила, затараторила:
– Теть Дина, не выбрасывайте коробочку! Пожалуйста, отдайте ее мне.
Столько мольбы в ней было, что соседка, скривившись, протянула ведро.
– Только вымой с мылом хорошенько! А лучше кипятком обдай.
Домой Зина возвращалась на редкость счастливой. Мылом помыла, а кипятком не обдала. Иначе пришлось бы правду маме выложить, что из мусора взяла, а она бы отругала: «Ведешь себя точно нищенка!» Поэтому Зина сказала, что шкатулку у подруги на фантики выменяла.
Эти воспоминания пронеслись в голове в одно мгновение. И сердце наполнило тихое счастье, такое, как в тот вечер, когда она впервые в жизни взяла в руку эту синюю расписную шкатулку из-под монпансье – так мама называла разноцветные леденцы. Она и убрала ее подальше только потому, что боялась: привыкнет, и уже ничто не будет радовать. Будто был определенный запас радости в этой шкатулке, который мог закончиться.
Зинаида подцепила ногтем крышку, она противно скрипнула и нехотя поддалась – очень уж плотно прилегали края. Достала письмо. Бумага за долгие годы пожелтела, чернила выцвели, но пока читались – она ведь нечасто извлекала его на свет. Быстро пробежала глазами знакомые строки. Почерк у отца был взрослый, стремительный, но разборчивый. Вновь наворачивались слезы, когда взгляд скользил по словам «люблю», «не мог», «на память». Она останавливалась ненадолго, а потом продолжала чтение.
Наконец добралась до самого важного.
«Медальон, который я тебе подарил, ничего не стоит. К сожалению, за свою жизнь я не скопил ни золота, ни бриллиантов. Но и эта вещица может кому-нибудь понадобиться. Если вдруг заметишь слежку, обратись к Чистякову Олегу Михайловичу, он поможет».
Вот так, коротко и ясно. Как эти слова запомнишь, если они похожи на бред? Кто бы за ней, Зиной, следил. Или следят все-таки за медальоном? И вообще, хорошо сказано: обратись к Чистякову. Это раньше просто было: платишь в справку двадцать копеек, и тебе выдают адрес и схему начертят, как дойти. Если повезет, в телефонной книге номер отыщешь. А теперь – защита личных данных. Телефон не раздобудешь, не то что адрес. И сколько было тому Чистякову двадцать пять лет назад? Либо помер уже.
Размышляя, она быстро почистила картошку, порезала в сковородку, открыла тушенку – подарок от мамы к первому мая. Десять банок подарила, восемь съели. Зина заглянула в стол. Сейчас откроет и останется одна. Но скоро ехать в деревню картошку окучивать, мама еще тушенки даст.
Так искать Чистякова или не надо? Сегодня она преследователя отпугнула. А что если завтра он снова появится? Так и будет в полицию каждый день стучаться? Надо, по крайней мере, попытаться связаться с этим Олегом Михайловичем. Если уж не найдет – значит, не судьба.
Едва дождавшись, когда от сковородки потянуло запахом жареной картошки с легким ароматом мяса, она позвала сына:
– Богдан, иди ешь!
На этот раз он появился почти сразу. Зина поставила перед ним глубокую тарелку, хлеб, заваренный чай, а сама выскользнула из кухни. Пока сыну дали модем, надо попробовать поискать в Интернете нужные сведения.
К ее облегчению имя Олега Михайловича Чистякова она отыскала быстро. Но, перейдя по ссылке, засомневалась: это оказалась страничка Вконтакте, принадлежащая некоему Елисею Чистякову. Вроде бы ему 16 лет, но по фото только шесть. Он опубликовал свою работу – генеалогическое древо. Олег Михайлович Чистяков значился там его прадедом. Тот или не тот? Посомневавшись, Зинаида отправила Елисею сообщение (благо сын тоже был зарегистрирован в этой социальной сети): «Здравствуй, Елисей! Пишет тебе тетя Зина (со странички сына Богдана). Мне очень понравилась твоя работа. Мой папа был знаком с Олегом Михайловичем Чистяковым. Скажи, жив ли он еще и как с ним можно связаться. Спасибо!»
Судя по дате последнего посещения, Елисей заходил сюда нечасто, раз или два в месяц. Но, может, ей повезет, Елисей прочтет ее послание, и это окажется тот самый Чистяков, и он еще не впал в старческий маразм и поможет ей… Сколько нужно везения!
– Я поел, выходи! – заявил Богдан, появившись в зале.
– Коробку поставь обратно сначала, – попросила она.
– Мать, ты офигела! – возмутился он.
– Поставь, а я тебе завтра пятьдесят рублей дам.
Богдан пофыркал, но всё же легко – дал же Бог силу – закинул ящик обратно. А слезая с табуретки, потребовал:
– Сегодня дай, а то завтра забудешь.
Что любишь смотреть?
Почти всю ночь Олеся просидела за лекциями и конспектами – готовилась к экзамену. А утром с ней произошло то, что обычно бывает с невыспавшимися людьми: в полудреме машинально выключила будильник на телефоне, позволив себе полежать пять минуточек, а когда снова открыла глаза, до начала экзамена осталось всего полчаса. Она натянула длинную домашнюю футболку, почти прикрывающую колени, подхватила полотенце и галопом помчалась в ванную. Но дверь оказалась закрыта. Она отчаянно забарабанила:
– Пашка, выходи скорее, опаздываю! – дверь открылась, и она восхищенно выдохнула: – Фигасе!
Лекс в одних брюках смотрелся так, словно сошел с постера «Войны богов». На голом рельефном торсе поблескивали капли воды. На левом плече красовалась татуировка размером чуть не с блюдце: голова волка в пунктирном круге.