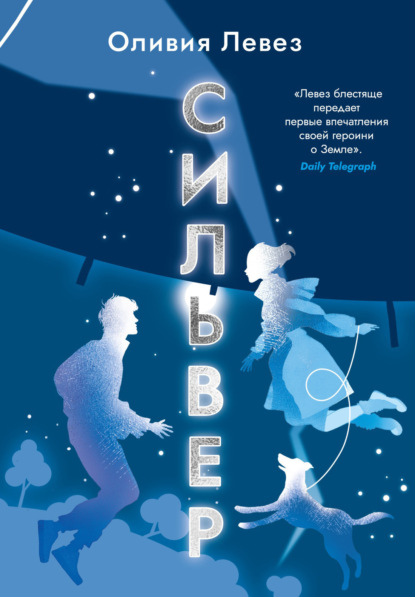Полная версия
Грета
Я прочел каждый. От начала до конца. В половине второго ночи положил телефон на тумбочку, поставил на зарядку и закрыл глаза. Но сон все не шел. Я думал о том, как странно все эти люди отзывались о Грете.
Темноту пронзал яркий, резкий свет телефона.
Почти каждый обращал внимание на внешность.
Красавица. Похожа на ангела. Блондинка. Голубые глаза. Восхитительная. Симпатичная. Восхитительная юная девушка. Невинная красота. Они считают случившееся более драматичным, а утрату более невосполнимой только потому, что Грета была красивой блондинкой с голубыми глазами.
За всем этим скрывалась какая-то пронзительная и неприятная истина, но я решил не ломать над ней голову. Я очень устал. Со смерти Греты прошло слишком мало времени, чтобы углубляться в размышления. Я мог лишь собраться с силами и двигаться дальше, от одного дня к другому – и этого было довольно.
Глава 3
В четверг произошло кое-что необычное.
Может быть, важное, а может, и нет. Одно из тех событий, которые нельзя оценить, пока они не станут прошлым.
Я вернулся из школы, мамы не было дома. Такое не раз случалось – она часто работала допоздна, иногда до восьми вечера (особенно летом, когда люди всерьез принимаются за уборку загородных домов). Записки она не оставила, так что я просто сделал себе сэндвич с арахисовой пастой и бананом и завалился на диван, наслаждаясь тишиной.
До смерти Греты я не знал, что после больших несчастий людям нужно время, чтобы вернуться к молчанию. Им кажется, что шум отвлекает от мыслей, помогает заглушить боль. Конечно, они стараются разговаривать на пониженных тонах, иногда даже шепотом, однако при этом не умолкают ни на секунду.
У мамы всегда был включен телевизор, даже когда она его не смотрела. В школе нас грузили войнами, химическими формулами и бесконечно печальными романами, а в остальное время мы все о чем-то болтали.
С тех пор как умерла Грета, я впервые оказался в тишине.
За последнюю неделю школа изменилась до неузнаваемости. Все очень быстро уставали и много плакали. Повсюду сновали полицейские, фотографы по-прежнему дежурили у ворот. Однако меня всегда удивляла стремительность, с которой необычные обстоятельства превращаются в норму. Спустя пару дней мы уже не могли точно вспомнить, какой была жизнь в те времена, когда копы не рыскали по газону вдоль ограды по периметру школы, а на уроках никто не рыдал. Мы перестали обращать внимание на тех, кто выбегал из класса с мокрыми глазами. Такое поведение сделалось рутиной.
Образ Греты тоже изменился; она обрела святость, каждое воспоминание о ней стало сокровенным. Откуда-то откопали ее тетрадку по математике за восьмой класс и передавали друг другу под партами во время уроков, будто священную книгу запрещенной секты, хотя в ней была куча ошибок и Грета ненавидела математику. Доска около класса по ИЗО, на которой висел ее прошлогодний рисунок одуванчика, превратилась в место паломничества – возле нее собирались стайки девчонок, шептались о чем-то, иногда плакали.
Но больше всего изменились учителя. Наверное, мистер Ллойд велел им вести себя помягче, особенно в нашем классе; на нас никто не кричал и не отчитывал. Через четыре дня мы перестали готовить домашнюю работу. Половина девчонок прикидывались слишком расстроенными, чтобы ходить на физкультуру, и суровая миссис Дойл, обожающая издеваться над учениками, лишь понимающе кивала. На английском Гуто Вин назвал Роджера из «Повелителя мух» придурком, а мисс Эйнион, вместо того чтобы выйти из себя и оставить Вина после уроков, лишь глубоко вздохнула:
– Пожалуй, достаточно, Гуто.
В некотором смысле это было здорово, но мне хотелось, чтобы все опять стало нормальным и мы смогли ощутить твердую почву под ногами.
Когда мама вошла в комнату, я дремал на диване с телефоном в руке. На маме была рабочая одежда, выглядела она очень уставшей, осунувшейся. Несколько секунд она не сводила с меня глаз, потом медленно потащилась на кухню, чтобы поставить пакеты с покупками.
– Все хорошо?
– Да. А у тебя?
– Даже не спрашивай. – Я услышал щелчок чайника, глухой стук дверей шкафчиков, в которые мама складывала продукты, купленные на сегодняшнюю зарплату. – Черт возьми, Шейн, разве так сложно убрать за собой? Тут повсюду крошки.
– Извини.
Она вздохнула, и вскипевший чайник издал еще один щелчок. Теперь от повисшего молчания мне стало не по себе, и я почти потянулся за пультом, чтобы включить телевизор и услышать хоть чей-нибудь голос.
– Извини, Шейни. – Я знал, что мама это скажет. Она была мастером извинений. – Встала сегодня не с той ноги.
Мама редко раздражалась, обычно у нас все было гладко. Мы никогда по-настоящему не ссорились. Похоже, у нее и правда выдался тяжелый день.
Я не сразу узнал причину ее скверного настроения. Мама приготовила ужин, и мы устроились перед телевизором с тарелками пасты с томатным соусом; густой пар призраком висел перед нашими лицами, пока мы смотрели новости. Разумеется, на экране снова была Грета. Шел репортаж о ее родителях (слезы на глазах, приглушенные голоса). Они сидели передтем самым снимком любимой дочери, умоляя всех, кто владеет информацией, поделиться ею с полицией. Под вспышками фотокамер они выглядели растерянными путешественниками, застигнутыми грозой. Когда они молчали, возникала неловкая пауза, как будто актеры на сцене забыли свои реплики.
Я заметил, что мама перестала есть.
– Что такое? – спросил я.
– Меня от них тошнит.
Она выплюнула эти слова так, будто они мешали ей дышать и она бы задохнулась, если бы не произнесла их.
Я отложил вилку в сторону. Раньше мама никогда не сказала бы такого, особенно про родителей, у которых погиб ребенок. Она много лет убирала в доме Греты и всегда хорошо отзывалась о ее семье. Мама была хорошим человеком, одной из тех добрых душ, которые часто улыбаются и никому не скажут дурного слова – даже тем, кто этого заслуживает.
– Мама!
Она начала плакать, вернее, издала один громкий всхлип, который давно просился на волю. Я с изумлением смотрел на нее. Наверно, мне стоило подойти и положить ей руку на плечо или обнять, но я остался на месте.
– Мам?
И тогда она мне все рассказала.
* * *Каждый четверг мама ездила убираться к семейству Пью. Выходила из дома около девяти утра. Провожала меня в школу, выпивала чашечку кофе, смотрела новости, мыла посуду и только потом отправлялась в Брин-Мар. К ее появлению Грета уже была в школе, а ее предки – на работе. Мама наводила порядок, загружала и разгружала стиральную машину, гладила белье. Миссис Пью оставляла плату в конверте на каминной полке, под антикварными часами, которые с трудом отбивали время и казались очень уставшими.
Брин-Мар – большая старая ферма с обширным участком, который включает в себя почти целую гору, надменно глядящую вниз на Бетесду. Семья Пью была достаточно богата, чтобы нанимать людей для грязной работы. Кельвин, отец Греты, считался фермером; каждый день с рассветом он выезжал на квадроцикле проверить свою гору, однако неизменно возвращался домой еще до полудня. Он платил людям, чтобы те чинили ограды, чистили сараи и занимались прочей скучной и неприятной работой, которую Кельвин делал бы сам, будь он настоящим фермером. Мама говорила, что он обычно появлялся в доме, когда она убирала кухню или одну из ванных комнат. По ее словам, Кельвин всегда вел себя очень вежливо – приятный, простой человек, чуть ли не глупый.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Тазер – электрошоковый пистолет. С 2007 года полицейским Англии и Уэльса официально разрешили пользоваться тазерами при задержании несовершеннолетних. – Здесь и далее примеч. перев.
2
«Теско» – крупная британская сеть супермаркетов.
3
«Место преступления» («CSI: Crime Scene Investigation») – популярный американский детективный сериал (2000–2015).
4
«Настоящие домохозяйки» («The Real Housewives») – американское реалити-шоу про жизнь богатых неработающих женщин (2006–2015).