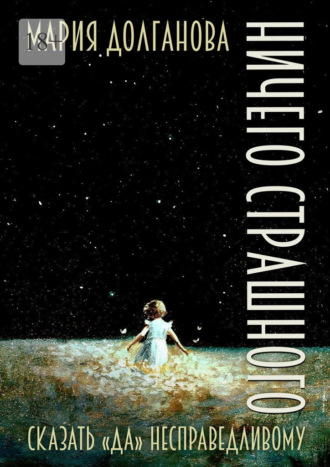
Полная версия
Ничего страшного. Сказать «да» несправедливому
19 ноября. Химию отключили, но Олеся еще оставалась с подключенной капельницей, «промывкой», как ее называют простым языком, с ней дети ходят достаточно долго. В Олесином случае блок терапии не был пройден, предстояло получить еще дозу химиопрепаратов через две недели.
Поначалу мы с Олесей не выходили в коридор, мало перемещались по палате – разве что до раковины, почистить зубы или помыть руки. В коридоре же сразу можно было узнать «бывалых». Они уверенно передвигались со стойкой, на которой крепилась капельница. Маленькие дети шли рядом с родителями, которые катили стойки, дети постарше справлялись самостоятельно.
К. сообщил, что договорился встретиться с главврачом больницы 22 ноября, в понедельник. Эту встречу мы ждали и добивались давно, но главврач откладывал ее до тех пор, пока не будет ясности в диагнозе и плане лечения.
Я хотела и боялась этой встречи одновременно. Хотела прояснить вопрос по диагнозу, потому что Оксана Петровна по-прежнему была немногословна, но в то же время боялась, что наши и без того не установившиеся отношения с ней совсем ухудшатся: никто ведь не любит людей, которые прыгают через голову.
Выходные в больнице – тихое время. Присутствуют только дежурный врач в каждом отделении и медсестры – меньшим составом, нежели в будни. Особо никто не смотрит на время подъема и отбоя.
Дети продолжали налаживать контакт. Я купила Олесе аппликацию в местном больничном магазинчике, и она, к моему и всеобщему удивлению, пригласила Петю помочь ей. Когда к ним попросилась Катя, Олеся отказала. Закончив делать аппликацию, они переключились на «Щенячий патруль».
Во второй половине дня К. передал пластилин с фигурками для Леси, и Петя предложил слепить что-нибудь. И тут произошел интересный для меня диалог между ними. Олеся сказала:
– Нет, в пластилин я хочу поиграть одна.
– Хорошо, но баночки туго открываются, может, помочь тебе открыть?
– Да, помоги, пожалуйста.
Петя молча открыл ей все баночки и ушел на свою кровать без лишних комментариев. Для меня открылась какая-то новая реальность про умение отказывать и принимать отказы. Неужели так бывает?..
В какой-то момент Петя подошел к Кате, предложил поиграть с ней и ее игрушками. Катя попыталась отказаться, но быстро была поставлена бабушкой на место:
– Делиться надо! Ты что, хочешь быть как Олеся?.. – Потом она сама поняла, что сказала неприятную вещь о моем ребенке, и тут же поправилась: – Она ладно, она еще маленькая, но ты-то куда?
Меня не покоробили слова бабушки, у меня звучала фраза в голове: «Я хочу как Олеся». Я хочу любить то, что у меня есть, делиться этим или не делиться в соответствии со своим желанием. Уметь отказывать независимо от реакции второй стороны, не боясь последствий. Даже если я для кого-то дурной пример.
Отношения между детьми – Олесей, Катей и Петей – закрыли внутри меня вопрос про жадность. И я стала не просто говорить, что это нормально, поскольку прочитала это в какой-то книге или услышала от психолога, а поняла: это и вправду нор-маль-но. Я ответила себе на вопрос, почему кто-то спокойно принимает отказы, а кто-то нет: потому что кому-то разрешили не делиться, и я себе разрешила. Я и раньше отказывала, но с титаническим усилием над собой.
22 ноября. Этот день стал для меня морально непростым.
В восемь утра К. приехал на встречу с главврачом. Секретарша главврача позвонила на пост нашего отделения и пригласила меня в кабинет. Я выдохнула, собрала волю в кулак и пошла. Я не знала, что нас ждет, но приняла для себя, что это действие ради здоровья дочери, плохое отношение я перетерплю. Конечно, простой разговор здоровья пациенту не добавляет, но останавливает внутренние метания родителей, как бы это ни обесценивалось медиками.
Что для меня стало неожиданностью – главврач велел вызвать заведующую нашего отделения, Елену Степановну. Напомню, сам главврач был хирургом, и почему-то я думала, что разговор будет только лично с ним. Но он не вникал в историю болезни Олеси, да и не должен был. Пока мы ждали Елену Степановну, в кабинет заглянула секретарь и сообщила, что в операционной готов пациент, ждут главврача для начала операции. Он лишь кивнул.
В кабинет вошла Елена Степановна, и ее лицо изменилось, когда она столкнулась взглядом со мной: она не ожидала увидеть тут меня и не готовилась к этому разговору.
Главврач начал беседу:
– Елена Степановна, что у нас по Долгановой?
На лице Елены Степановны отразился спектр эмоций: растерянность, злость, замешательство. Она говорила и периодически переводила взгляд на меня. Это был недобрый взгляд.
– У Долгановой подтвержденная гепатобластома, лечение мы начали по протоколу, мама в курсе. Я вообще не понимаю, зачем было беспокоить вас. Маша, у тебя есть какие-то вопросы? – обратилась она ко мне. – Ты у врача своего спросить не могла?
– Да, есть вопросы, ответы на которые я не получаю, – начала объяснять я, чувствуя неловкость. Кажется, я получила то, чего и боялась.
– Зачем вы пошли таким путем? Зачем беспокоите главврача? Вы знаете, что у него много работы? Его ждет пациент, а он вместо операции должен сейчас с вами разговаривать.
К. чувствовал себя спокойно и уверенно, а я – нет. Мне еще нужно было как-то дальше взаимодействовать с заведующей, человеком, от которого зависит жизнь и здоровье Олеси, поэтому ее слова сильно задевали меня, хоть я и понимала их бредовость.
– Мы еще до госпитализации договорились с главврачом о разговоре: как только картина с диагнозом прояснится, мы встретимся и обсудим все детали. Нам важно понимать, что происходит. Речь идет не о претензиях к вам. Когда появилась договоренность, с вами еще никто не был знаком, – сказал К., и я была благодарна ему в тот момент.
Елена Степановна немного скривилась:
– Все понятно. Что вы хотели узнать?
– Мне хочется понять данные онкомаркеров, почему в заключении написано «Pretext 4», поражение всего органа, почему выбран самый последний протокол, с очень высоким риском… – начала я.
Я ведь задавала эти вопросы врачу, но не получила на них ответы. Перечитала много литературы, но так и не нашла соответствия Олесиным данным.
– Зачем вам это знать – вы что, врач? Данные я не знаю, они в карте, карта у Оксаны Петровны, – прокомментировала Елена Степановна.
– Значит, пригласите ее, – сказал главврач.
Спустя несколько минут Оксана Петровна с Олесиной картой была в кабинете. В отличие от Елены Степановны она была спокойна. Мы обсудили анализы, вводимые препараты, возможные побочные действия, но причину выбора именно такого протокола я так и не поняла. Скажу наперед: несмотря на то, что в том разговоре я замечала некоторые противоречия с изученными в интернете научными работами медиков, в дальнейшем на практике мы получали ровно те препараты, с тем таймингом и в тех дозировках, что я и ожидала после прочтения этих работ.
К. спросил, стоит ли нам смотреть в сторону заграницы или других российских клиник. Врачи сказали, что нет. Главврач рассказал об открытии новой операционной в конце года и о том, что организует прилет лучшего в России детского хирурга-онколога, специалиста по печени, к тому моменту, когда Олеся будет готова к операции. Протоколы, сказал он, везде едины, будь то Россия или другая страна, препаратами больница обеспечена, препараты импортные. Нам не стоит тратить деньги, а самое главное – время. К тому же говорилось о дороговизне и негуманности зарубежных клиник.
– Если деньги закончатся, вас просто выставят за порог, – аргументировал кто-то из онкологов.
Но помимо разговора по делу Елена Степановна не упустила шанс напомнить главврачу:
– Им вообще-то еще в 2019 году было рекомендовано обратиться к онкологу, но они же самостоятельные… Потому ребенок тяжелый, ребенок запущенный…
– Так… Остановитесь! – прервал ее главврач.
Как эта информация относилась к диалогу, я не знаю. Она бы имела значение при рецидиве, если бы в 2019 году мы получали лечение или было бы какое-то вмешательство. Но на дворе был 2021 год. Того случайного УЗИ могло попросту не быть, и мы поступили бы в больницу с той же картиной. Тогда, вероятно, ребенок считался бы не запущенным, а скорее, недообследованным.
Елена Степановна словно хотела сказать мне – все худшее, что могла сделать для своей дочери, я уже сделала, а теперь бы хорошо заткнуться и не вредить больше, просто слепо доверять врачам, которые согласились лечить моего запущенного ребенка.
В горле у меня снова стоял ком. Это слово, запущенный, было камнем в мой огород. Запущен кем? Ну мной, конечно!
Так мой страх про испорченные отношения с врачами подтвердился. Какое-то время мне предстояло выносить общение с заведующей, которая разговаривала сквозь зубы. В отличие, кстати, от Оксаны Петровны, которая оставалась после осмотров, чтобы я могла задать ей вопросы. Так, совершенно по-разному, на нас отреагировали два врача. При этом в отделении у Оксаны Петровны было гораздо меньше поклонников, чем у Елены Степановны.
Маятник неведения я успокоила. Маятник неловкости перед Еленой Степановной раскачала. Вина перед Олесей не усилилась, она и до этого была на грани, некуда уже было ей расширяться. Но такое состояние меня устраивало больше, чем неведение. А Оксану Петровну я стала даже больше уважать за то, что она не разозлилась на меня, вызванная на встречу к главврачу, и ни разу за все наше лечение не подпустила ту самую шпильку про 2019 год. А ведь еще несколько дней назад у меня было желание сменить лечащего врача из-за отсутствия обратной связи. Теперь желание пропало.
В итоге мы с К. приняли решение остаться в России в этой самой Больнице №1 и у этого самого врача.
23 ноября. У Олеси с раннего утра была температура с ознобом. Ее начало морозить, а на градуснике было уже больше 39. И такое за день повторялось неоднократно. Конечно, я пугалась. Температуру сбивали жаропонижающими, но меня это не успокаивало. Предполагали распад опухоли либо то, что занесена инфекция в катетер. Конечно, первый вариант меня устраивал, хотя уже потом я поняла, что при распаде опухоли значения не такие высокие. В общем, все было похоже на инфекцию.
При следующем скачке температуры в подключичный катетер залили специальный раствор, дабы убить потенциальную инфекцию и проверить, является ли инфекция катетера источником температуры. Олесе пришлось потерпеть установку нового, временного катетера на сгиб руки. Рушилась моя идеальная история ровного лечения и выздоровления.
– Пусть это будет самая большая неприятность. – Так заканчивался каждый мой разговор с мамой по телефону. И это было странно – что значит «пусть»? Будто мы смирились, приняли и позволили. Как будто не позволить все же могли.
В тот день я приняла решение – сделать паузу в работе. Длительность этой паузы я не определила, и «навсегда» тоже подходило. Моя работа предполагала множество телефонных звонков поставщикам и коллегам. Учитывая количество людей в палате и разность возрастов, практически всегда спал кто-то из детей, а иногда и взрослый, для которого мои звонки и разговоры были помехой. Я еще больше напрягалась при таком режиме. При этом корила себя за несделанные или сделанные некачественно дела. Мой лояльный работодатель, к счастью, не был против. Мы остановили мое участие в делах на той точке, где они справились бы сами, но если бы очень понадобилось, то обратились бы ко мне.
Тогда у меня были большие долги перед банками, о которых я еще расскажу, и я никак не могла продать загородную квартиру. Теперь же я решила выбрать свое спокойствие и отдаться на волю случая, больше не дергаясь по поводу продажи.
И случай не подвел: на квартиру нашелся покупатель. Он, правда, пытался договориться со мной на скидку, на иные условия, сделав ипотеку более выгодной, но я отказала ему во всех просьбах – урок отказов от Олеси был еще свеж. Покупатель при этом не настаивал и в итоге принял все мои условия. Он заключил договор, внес аванс и ждал нашего перерыва для встречи в банке.
24 ноября. Лесю отключили от капельницы и отправили на УЗИ.
Сдвигов не было – ни в размерах опухоли на мониторе, ни в данных онкомаркеров. Заключение делать было рано, и я это понимала. Но хорошая динамика была бы для меня все же приятнее, чем никакая. Хотя многие пациенты считают, что никакая лучше, чем отрицательная. Много позже и я попаду в их число.
Из нашей палаты выписали двоих пациентов: Петю, в связи с тем, что все контрольные обследования он прошел, и результаты оказались хорошими, и еще одного мальчика, которого перевели на дневной стационар, в соответствии с его протоколом лечения.
Это был невероятно милый двухлетний мальчуган с беременной мамой. Он стал для меня еще одной… надеждой, поскольку хорошо переносил химию и не потерял волосы. Любые его действия вызывали улыбку не только у меня, но и у всего медперсонала. Он был тем самым пациентом «из книжки» – и по сей день у него все хорошо.
Я видела этих счастливых людей, пакующих вещи, и понимала, что мне не предстоит это делать ни завтра, ни в ближайшее время: выписка, даже на перерыв между этапами химиотерапии, здесь достаточно прогнозируема. Но я зафиксировала их радость и свою веру, что нам тоже предстоит это испытать.
Немного опасливо я ждала, кого же подселят на освободившиеся кровати. В больницу попадали люди очень разные, и не каждого родителя я бы желала увидеть в числе наших соседей. Но, на мое счастье, какое-то время кровати оставались пустовать.
2 декабря. Я уже научилась считать дни по протоколу, и назавтра ожидалось второе введение препаратов химиотерапии. Лекарства были другие, и я снова волновалась. Олесе вновь открыли подключичный катетер, чтобы подключить капельницу перед химией.
К нам подселили совсем крошечную малышку с мамой. Малышка была недоношенная. В свои семь месяцев она выглядела максимум на два. Мама Лена была из категории разговорчивых, любопытных, совершенно простых, наивных, бесхитростных, незлобных, но… навязчивых людей. Она очень шумно и долго меняла подгузники по ночам, размешивала смесь для кормления. Ее действия были нелогичными, рассеянными, малышка в ожидании еды долго кричала. Сама Лена вязалась с разговорами к любому, кто хоть как-то показывал, что готов ее слушать. Разговоры были однотипными: о болезни, о том, как она устала, как ей тяжело, о том, что она ничего не успевает, что ей не помогает муж, свекровь, а еще о том, какие бедные дети в больницах.
Наша с Олесей кровать была далеко от новой родительницы, и Лена, к счастью, находила собеседников поближе к себе. Да и я со своими сухими ответами и отсутствием реакции на истории была ей малоинтересна. У малышки не было рака, но она также получала химию, хоть и облегченную.
Лена при этом подсветила интересную тему. Каждый из нас считал, что он несчастен, и в разговорах все, выходит, соревновались, кому же хуже. У кого-то дома ждали дети, кто-то был беременный, кто-то глухонемой или без мужа, кто-то издалека, у кого-то были серьезные проблемы с деньгами, у кого-то – со здоровьем. Лена утверждала, что ей досталось больше всех: у остальных ведь самостоятельные дети, которых можно оставить одних, чтобы помыться или сходить в магазин. Честно говоря, у меня внутри что-то закипало от этих слов.
Когда малышка засыпала, Лена садилась и тратила свободное время на рассказ о том, что она ходит с грязной головой, не успевает поесть. Казалось бы, иди мойся, садись поешь, пока ребенок спит. Но Лена никак не могла угомониться, и когда собеседники в нашей палате заканчивались, она искала их в соседних. Когда же малышка не спала, Лена просила с ней посидеть, чтобы наконец-то помыться или поесть.
Меня это задевало: хотя я не имела никакого отношения к распределению ее времени, я злилась на то, что она страдает, что ей хуже всех.
Жаловалась не только она – многие говорили в мой адрес:
– У тебя не осталось детей дома, которые тоже хотят видеть маму…
– Ты же местная, у тебя есть знакомые, кто может что-то принести, передать…
– У тебя ребенок спокойный и самостоятельный, а мой не такой…
– Ты можешь работать удаленно, у меня такой работы нет…
Поначалу хотелось доказать, что мне тоже тяжело, а эти слова обесценивают мою ситуацию. Я пыталась возразить Лене, объяснить: она может помыться, но тратит время непонятно на что, напомнить другим, что совмещать лечение и работу непросто, и независимо от того, что я местная, я пользуюсь услугами курьеров, и они так могут… Но что-то вдруг переключилось у меня в голове: зачем я хочу встать на место самого несчастного тут?..
Я поняла, что в стенах этой больницы есть много людей, желающих оказаться на моем месте. Что ж, пусть так оно и будет. Можно ведь было рассказать про огромный для меня долг перед банками, про то, как я воспитываю Олесю почти всегда в одиночку со дня ее появления, про другие мои проблемы. И если кого-то дома ждут дети – это прекрасно, потому что для меня возможная потеря ребенка – это потеря единственного родного и самого близкого для меня человека. Только зачем же мне было возражать?.. В этой игре любой плюс можно развернуть в минус, и выигравших в ней, увы, нет. А если все же выиграю я, то какой мне положен приз? Большая порция сочувствия?..
Так я вышла из этой игры проигравшей.
Иногда проиграть приятно: например, признать свою ошибку, тем самым закончив конфликт. Или хотя бы просто замолчать, остановив спор, – пусть победит оппонент. Победа ведь не измеряется в баллах, а призом мне будет сэкономленное время и покой. И победа выйдет не над соперником, а над собой.
3—4 декабря. Двое суток по плану мы получали химиотерапию. На вторые сутки у Олеси опять началась температура. Блок из-за этого растягивался: химию останавливали, температуру сбивали, потом введение препаратов возобновлялось. Это был выходной, и в больнице находился только дежурный врач.
В декабре активно начинаются предновогодние мероприятия, больница не была исключением. В само отделение редко впускают аниматоров, минимизируя контакты с внешним миром. При этом на улице готовили праздник с оркестром, Дедом Морозом и Снегурочкой, чтобы дети увидели представление из окна.
В отделении началась суета. Многие уже стояли у окон, дети волновались и торопились, Олеся тоже очень хотела посмотреть представление. И трубка капельницы зацепилась за что-то, и когда мы начали движение со стойкой, подключичный катетер вылетел наружу.
Химии оставалось на сорок минут. Препарат капал на пол, а у Олеси бежала кровь на месте установки катетера. Соседка позвала медсестру, нам велели бежать в процедурный кабинет. Там Олесе быстро обработали и заклеили место, где вылетел катетер, и установили новый, обычный, на кулачок. Конечно, она и я были напуганы. Дежурный врач утешала Олесю и меня, что все в порядке, ничего страшного, так бывает. Медсестра при этом говорила, что в понедельник нам прилетит от строгой Оксаны Петровны за невнимательность.
Мы все же успели на окончание праздника. От всех впечатлений Олесю сморило в сон, и она быстро уснула. Я волновалась по поводу предстоящих будней – не хватало нам еще недовольства нашего врача. Но в случившемся вина моя и правда была, деваться некуда. Что радовало, температура у Олеси прошла безо всяких антибиотиков. Дежурный врач сделала заключение, что все-таки катетер и был источником инфекции, значит, пора было с ним расставаться, пусть и таким радикальным путем. Кстати, проблем с нашим врачом у нас не возникло: исход оказался наилучшим, так что вопрос даже не поднимался.
* * *Все события в жизни в итоге становятся наилучшим исходом. Иногда ты понимаешь это сразу, иногда – спустя время, а иногда и вообще не понимаешь или не хочешь понимать. Кому как удобно.
Если кажется, что происходящее с тобой – это Божья кара, наказание, или невезение, дай себе время увидеть настоящую ценность и нужность этого поворота жизни. Не то чтобы я такой знаток мироустройства, но применять эту философию куда радужнее, чем страдать о том, чего не можешь изменить или на что повлиять.
* * *В последний день химии в город приехала моя мама, Олесина любимая бабушка Оля. Это позволило мне, наконец, расслабиться. Она ездила в больницу каждый день, независимо от погоды и дней недели, мы обменивались передачками. Она приносила нам еду, игрушки, чистую одежду. Мы в ответ отдавали пустые контейнеры и вещи в стирку.
Знаете, тебя могут окружать сотни и тысячи людей, но не со многими есть это чувство разделения беды, когда она становится не такой большой, как раньше, когда не помещалась в тебе. Для меня таким человеком была и есть только мама. По-прежнему все решения относительно Олесиного лечения лежали на мне, я не хотела, чтоб кто-то принял эту ношу, но я чувствовала поддержку от мамы.

5 декабря. Наконец-то отремонтировали онкологическое отделение. Для кого-то оно было знакомым местом, ведь некоторые пациенты находились в больнице не просто месяцами, но и годами.
Начался активный переезд. Мамы перетаскивали свои и детские вещи, рабочие таскали мебель. Мы ходили по очереди, чтобы за детьми был присмотр.
Олеся подкашливала, как и половина отделения. Буквально за три дня до переезда у кого-то из детей появился кашель, который с большой скоростью распространялся от палаты к палате, не обойдя стороной и нашу. Крайне нежелательно ей было заболеть, тем более я рассчитывала на скорый перерыв после химии. По моим расчетам, через десять дней мы должны были уже восстановиться и отдохнуть дома перед вторым блоком.
Оксану Петровну в тот день я не видела. Зато в палату вошла Елена Степановна в сопровождении двух мужчин, и я поняла, что это хирурги. Они пришли осмотреть Олесю. Один из мужчин пощупал Олесин живот и начал было что-то говорить. Елена Степановна остановила его и вывела в коридор, чем меня разозлила. Может, достаточно было уже этих медицинских тайн? Почему я опять не могу об этом знать?! Нашего же врача не было, так что спросить было некого.
Мы перетаскали оставшиеся вещи. Палаты достались нам согласно списку, который составлялся в соответствии с тяжестью заболевания, возрастом и полом детей. Мы с Олесей попали в трехместную. С нами же в палате оказалась и Лена с малышкой. Третья кровать оставалась пустой.
В новых палатах уже было достаточно стульев, раскладных кресел для сна родителей, даже были столы, за которыми можно было поесть, – наконец-то не на весу или над тумбочкой. Добавились и индивидуальные кабинки.
Меня не оставлял в покое вопрос: зачем к нам заходили хирурги? Я спросила об этом у женщины-онколога, за которой наблюдала давно. Мне нравилось, как она общается с пациентами, всегда отвечает на вопросы, тепло относится к детям. Именно она работала в то дежурство, когда вылетел наш катетер.
– А вам не сказали? Думают удалить опухоль, полностью или частично. Хорошо, если есть возможность удалить полностью. Только я вам ничего не говорила…
Я осталась наедине со своими мыслями. Как удалить? Почему? Зачем такое раннее вмешательство?.. С одной стороны, я и сама бы хотела, чтоб Олесю поскорее избавили от бяки. Но с другой – не понимала, почему меняется наш план лечения, который я только изучила и приняла.
В тот вечер дежурного врача сменила Елена Степановна. Я рискнула задать ей вопрос на вечернем обходе.
– Ваш диагноз под сомнением, – ответила она.
– То есть… может быть, что это не гепатобластома?
– Может. Онкомаркер не реагирует, опухоль не уменьшается.
– А что это может быть?
Она пожала плечами, но перед тем как закрыть дверь, сказала:
– Гепатобластома не подтверждается, но пока не опровергается.
Я погрузилась в размышления. Гепатобластома была не худшим вариантом среди возможных злокачественных новообразований печени. Меня снова окунули в те дни, когда мы только поступили, и ничего не было понятно. Нарисованный в голове план можно было вычеркнуть. Мы закончили химию, это был как будто первый хороший шаг. А теперь что? Нужна ли она была вообще? А не было ли это шагом назад?..
Олеся продолжала кашлять. Тревожные мысли не давали мне заснуть. Я с нетерпением ждала завтрашний день, чтобы поговорить с нашим врачом.
6 декабря. Я боялась задавать вопросы. Но сомнения меня терзали не на шутку.
Я набирала запросы: «Повышенный АФП (онкомаркер) при доброкачественных новообразованиях», «Могут ли доброкачественные новообразования копить контраст», «Рак печени, разновидности». Потом мне надоело гадать – сомнительный диагноз вернул надежду на лучшее, но отнял опору на знания, которые уже сформировались и к которым я более-менее привыкла.



