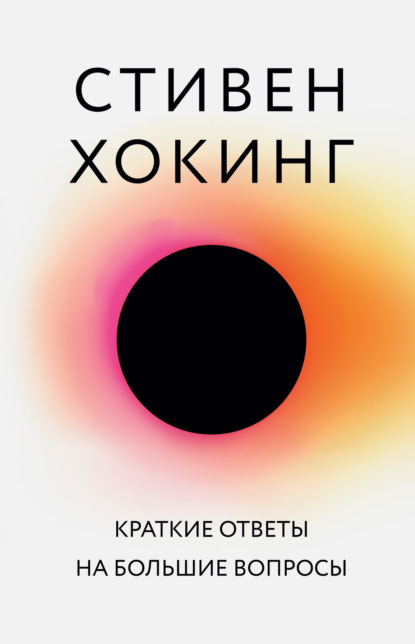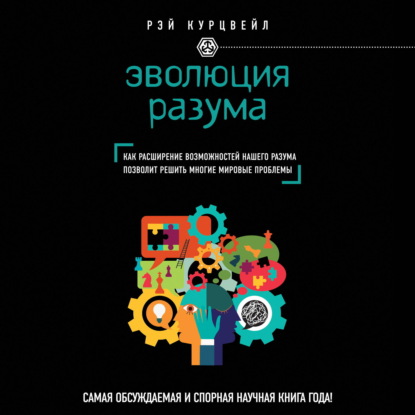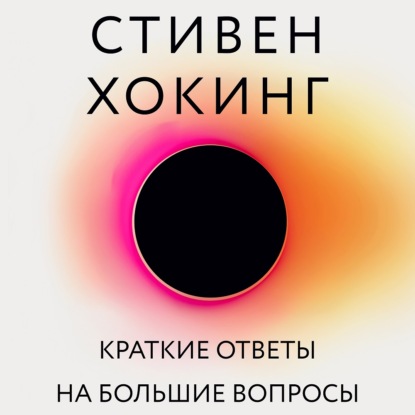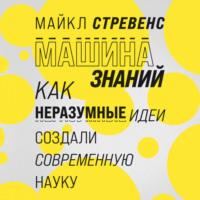Машина знаний. Как неразумные идеи создали современную науку
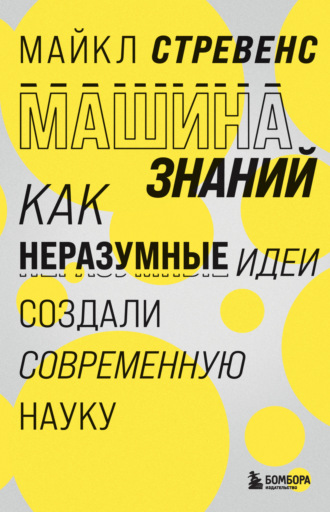
Полная версия
Машина знаний. Как неразумные идеи создали современную науку
Язык: Русский
Год издания: 2020
Добавлена:
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу