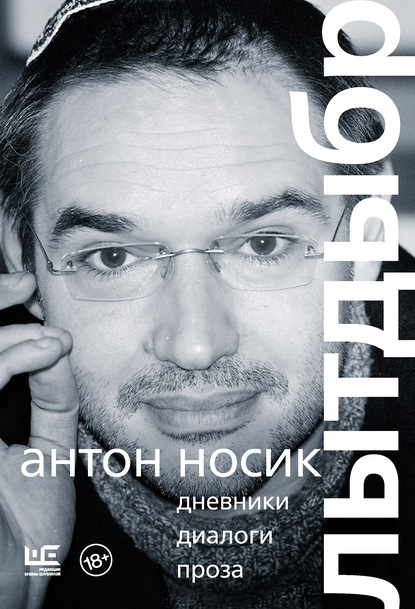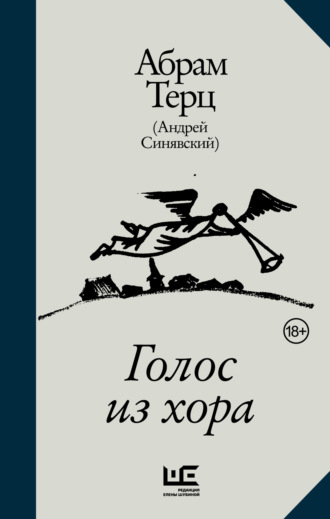
Полная версия
Голос из хора
А что если развернутые ступни Будды в позе лотоса – иная проекция сомкнутых молитвенно рук!..
…Бывают интонации, которыми говорящий словно хочет удостоверить себя, что он действительно был. Как если бы – не назови он этого паспорта, адреса – не было бы и человека.
– Я жил в Москве. Кропоткина, 28.
Это сказано с ожесточением.
Ответная реакция: – Меня не было, слышите – не было!
(Только слабое эхо: – Был…)
– Во сне я увидел фотокарточку самого себя.
Если во сне нам снится улица, по которой ходят люди, – значит, внутри у нас просторно, как в городе, и наша душа велика, и по ней можно пройти и спуститься по лестнице к морю и сесть на берегу и смотреть.
Собственную душу мы знаем лучше других, и она рисуется иногда какой-то кучей червей, грудой мусора. Лишь посмотрев вокруг себя, успокаиваешься: не все такие! По сравнению с благообразной наружностью окружающих наша внутренняя непривлекательность, о которой мы можем судить довольно здраво, – потрясает, кажется невероятной и понуждает от себя отворачиваться, равняясь на более обнадеживающую внешность друзей и соседей. Глядя друг на друга, мы как бы приободряемся и стараемся соответствовать образцу – лица.
Когда соберешь мысленно все горе, причиненное тобою другим, сосредоточив его на себе, как если бы те, другие, все это тебе причинили, и живо вообразишь свое ревнивое, пронзенное со всех сторон твоим же злом, самолюбие – тогда поймешь, что такое ад.
– Дьяволу все люди не нужны. Ему нужны некоторые. Я – ему нужен. Но я не поддамся.
Начальник лагеря:
– Что же ты – сам Богу молишься, а посылку просить к Сатане приходишь?!.
Мужик говорит кошке:
– Видишь, какой я хороший? Вот – принес…
(Не оттого ли мы все понемногу творим добро? И не потому ли им одним не спасешься?)
– Мне достаточно пять минут посмотреть на стену, чтобы сказать, что вот в этой стене больше зла, а в той – меньше… Добро, правда, я различать еще не научился.
В русском апокрифе есть эпизод: дьявол дрючком нанес Адаму 70 язв, а Господь повернул их внутрь – «и обороти вся недуги въ него» («Сказание, како сотвори Бог Адама»). Развивая аналогию, не получим ли мы в итоге подобного выворачивания – изгнание из Эдема, во-первых, а во-вторых, посмертные адские муки, когда вывернутая вновь, на старый салтык, душа попадает в атмосферу собственной внутренней жизни, которая станет отныне ее физической средой, окружением? Тогда она сама создает себе погоду в аду, и наказание за грехи, заложенное в самих же грехах, может восприниматься как нечто вполне вещественное.
– Эта наглая смерть…
– Этот смертельный человек…
Меня занимает сказка как проявление чистого, может быть впервые отделившегося от жизни искусства, и как оно проясняет действительность и делает ее более похожей на себя, разделяя добро и зло и заканчивая все страхи и ужасы счастливым концом.
Неужели свадьба в финале сказки – лишь иллюзия, которой мы пытаемся подсластить судьбу? Скорее, все же это настоящая, окончательная реальность развязки, которая себя обнаруживает, когда страшный сюжет рассеивается в ходе своего изложения…
– Трудно, Господи.
– А ты думал как?
Боль нужна для того, чтобы, уходя, оставить полное, освобождающее блаженство.
…А бесы тогда водились, как лягушки в болоте.
Человек, человек, сообщающийся с Богом сосуд.
– За что я благодарен Господу, так это – что за всю мою жизнь не убил никого. А сколько было случаев!..
– Один у меня родственник – Бог…
Он слышит ночью хор голосов – может быть, духов земли или всех рассыпанных по ней бесчисленных племен и народов – и, прислушиваясь, чувствует вдруг, что если поймет он сейчас из этого хора хоть слово, то сойдет с ума. Понять – сойти.
Каким мы голосом будем кричать в аду? – Не своим. Если даже в падучей каждый кричит совершенно неузнаваемо.
…И кашель двух стариков в бараке, похожий на диалог.
Послушав их немного, вступает третий.
Или – один, казалось, кашляя, говорил с собою на два голоса. Хриплым и страшным – спрашивал, спокойным, своим – отвечал.
А еще бывают ходики с вырезанной над ними из жести кошачьей головой, у которой глаза тикают туда-сюда с томительной методичностью.
30 июня 1967
…Не к Достоевскому лишь применимая, но ко всякому роману в его универсальном значении – засасывающая роль сюжета. Писатель интригует, заманивает в свою страну, куда, как с горки, мы скатываемся и оглядываемся, но поздно: попались! Книга – ловушка, лабиринт, по которому нас тянет сюжет, пока мы с головой не окунемся в стихию книги и не станем ее пленниками и поверенными. Не оттого ли на практике особенно широко применяются затягивающий сюжет путешествий, а также любовные истории с поджидаемой свадьбой в конце пути? В этих схемах пути с соблазнительной приманкой в финале выражена идея книги как умозрительного пространства, которое необходимо покрыть: прочтешь – узнаешь, чем дело кончилось. «По усам текло, а в рот не попало», лукаво сказанное в конце, знаменует и мнимость нашего присутствия на завершающем пировании, и внезапное исчезновение автора, который, помазав нас по губам давно обещанной приманкой, уже зазывает в другую сказку новым приготовлением к свадьбе.
Было бы интересно писать перетекающей фразой, начатой в ключе одного человека, а кончающейся другим, с тем чтобы она строем своим и развитием несла два лица, которые бы шли по ней навстречу друг другу и качались бы, как на качелях, увязывая и обнимая пространство шире общих возможностей. В этом прелесть деепричастных наивностей, типа: «подъезжая к станции, у меня слетела шляпа». Да и не в том ли разве задача языка – связывать разные планы и вещи, не обязательно по прямой, но чтобы ветвилось, росло, повинуясь собственной прихоти… Если, допустим, я иду к тебе, то, сказав вначале «я», почему бы тебе в конце не протянуть мне руки?..
Нужно доверие к речи, которая поведет, к руке, по примеру скульптора, режущего дерево в согласии с его волокном, не знающего, что выйдет по ходу, какой сучок или слово выпрет, и повернет, и даст оборот и строение.
– Сам инстинкт души говорит.
– Справедливостью моей души заявляю…
– Перекрестишься в душе тихонечко и пойдешь.
– Чтобы я кошкой интересовался?! Да я душе своей не рад.
– Душа все предчувствует, но предсказать не может.
– Зачем фуфайку надел? По глазам вижу – бежать хочешь, а я стрелять не могу – душа не позволяет. Снимай фуфайку!
(Старый надзиратель)
И наши души, взлетев к небесам, отвернутся от нас.
…В нашем северном неолите в могильниках не находят детей, но только – скелеты взрослых. По-видимому, детей хоронили иным способом – как до недавнего времени у некоторых народов Севера умерших младенцев, завернув в ткань и бересту, погребали в дупле дерева либо подвешивали к стволу или к веткам. Также известно, что у тунгусов духи-предки обитали в корнях, тогда как вершина Вселенского дерева служила резервуаром коллективной души народа, обеспечивающим смену и живой приток поколений. Нельзя ли отсюда вывести, что дети, не успевшие вдосталь пожить, для восстановления равенства отправлялись не в землю, но специальным рейсом – прямой дорогой – через дерево – на небо, с тем чтобы скорейшим образом снова появиться на свет?.. Какая связь с дождями и росами, которые испаряются и скоро вновь выпадают! какая непрерывная циркуляция душ в воздухе!..
Я похож на таракана, но не когда он бежит, а когда сидит, застыв на месте, в пустой отрешенности, уставившись в одну уму непостижимую точку.
Эпитет должен быть не прямым, но чуточку сдвинутым по отношению к определяемой вещи. Чтобы, помимо определения, выводить ее на иную косую смысла и заставлять поворачиваться и озираться по сторонам. Его неточность в данном случае создает живое пятно, размазывающее контур предмета до ощущения связанности с его окружением и продолжением. Эпитет призван смотреть и боковым и затылочным зрением, схватив несколько зайцев зараз. Нужно, чтобы от него у зрителя немного разбегались глаза.
Интересно думать на минимуме – когда ничего нет, ни книг необходимых, ни сил, и негде взять справку. Дано несколько строк или одна картинка, одна музыкальная фраза – и вот в нее погружаешься и начисто забываешь себя.
Куда девается эта сквозящая точка – я?
И чей-то ласковый голос скажет:
– Тебя нет. Понимаешь, тебя нет! Забудь. Забудься.
И я засну.
– Жаждал работать. Потому что это как во сне, когда работаешь. Потому что меня нет, когда я работаю.
Странно: человек вполне счастлив, когда забывает себя, не принадлежит себе. С самим собою – скучает. Средства заместить себя – работа, игра, любовь, вино и т. д. Счастливейшие минуты – не помним себя, исчезли из собственных глаз. Сон без снов – синоним нирваны (Лермонтов: «Я б хотел забыться и заснуть!»). Так же бабочки летят на огонь. О дай мне исчезнуть в блеске Твоей славы!
«Я» – такая точка, что, без конца вопия «дай! дай!», тут же шепотом шарит, как от себя избавиться. Неустойчивое равновесие личности, пульсирующей между жизнью и смертью.
– И во сне все кому-то доказывал, что он невиновен.
Какие бывают сны.
– Я часто во сне летаю. Утром залезешь на крышу, голова кружится, кажется – сейчас полечу.
– А я во сне все гадать начинаю – сколько еще сидеть. Но каждый раз на этом месте просыпаюсь.
– Ты знаешь, Андрей, я во сне и Бога видел, и ангелов. Один раз вижу – идет здоровый такой мужик. По воздуху. Борода седая, с палкой. И гонит перед собою по небу отару овец. Наклонился ко мне и что-то сказал, непонятное.
– Запомни, – говорит.
И дальше погнал. И уже далеко – как тучка.
А потом – ангел летит. С крылышками. Как на картинке. Подлетел и спрашивает:
– Понял, что тебе сказали?
Я говорю: – Нет.
– Ну, после поймешь.
(И похабные междометия на этом рассказе кончаются, без усилий, сами собой. А сны про чертей – тоже чудесные, но с матерком.)
– Когда спишь – не грешишь, не ругаешься…
– Вижу во сне – снайпер в меня стреляет.
– Приснилось: двое хотят зарезать. С одной стороны и с другой. Никуда не скроешься. И я – улетел!
– Во сне меня преследовала знакомая гермафродитка.
Сценарий из сна, достигаемый расположением фраз. Похороны. Гроб. Попрощавшись, уходим. В автобусе натыкаемся: он самый, живой! Не знаю, что и подумать. Едва решил заговорить, смотрю – под нашим автобусом – высунувшись из окна – под колесами – клубящиеся, как дым, облака…
Я буду являться к тебе привиденьем,Я буду тревожить твой сон.(Из песни)
Во сне мне белая курица поднесла в лапе облупленное яйцо, и я его съел.
Я увидел себя во сне со спины – маленьким таким человечком.
Оставалось ждать и надеяться на приснившиеся тапочки.
Рассказали сон, приснившийся одному латышу-двадцатипятилетнику, в далеком прошлом – спортсмену. Он увидел себя молодым – в марафонском беге на 25 км. В теле ощущение свежести и как бы легкого опьянения. Но ровно на середине дистанции, откуда ни возьмись, появляется судья: довольно! вам пора отдохнуть. Тот было отнекиваться, ничуть не устал, но судья мягко и упрямо: на отдых! Здесь же покойная жена, и тоже – хватит! довольно! Наутро, успев пересказать свой сон товарищам, бегун внезапно скончался от разрыва сердца. До окончания срока он не дожил ровно 12 лет и 6 месяцев.
Странно, что, просыпаясь, я всякий раз оказываюсь – я. На чем это держится?
Согласился бы я заснуть на те годы, что здесь нахожусь, чтобы как-то скрасить и сократить этот срок? Наверное, не согласился бы. Потому что надо это время не проскользнуть, но прожить, медленно и тяжело ступая, каждый день в отдельности и все подряд, один за другим пройти…
Сон – водопой души, убегающей по ночам на источники жизни.
Во сне мы получаем – я не могу подыскать другого, более подходящего слова – уверение. Мы уверяемся в том, что нужно жить дальше.
Как хорошо, что все спят, что всем нам дано спать, и, наделав массу глупостей за день, мы можем нырнуть, прикрыв глаза кожной пленкой, чтобы не захлебнулись, отчаливаем, отваливаем, и все твари тоже ныряют в тот океан, откуда все просыпаются, омытые этим чудом, ежесуточно умыкающим нас и выплескивающим обратно с ласковым напоминанием – пошел жить, опять жить!..
Мы самими собой заглушаем этот Голос и говорим:
– Помоги!
А Он отвечает:
– Я с тобой. Я же с тобой. Неужели ты не слышишь?
Удивительно владычество Бога над нами. Самое полное, деспотическое и безболезненное, нечувствительное, предоставляющее бездну свободы, не дающее и шагу свернуть с предназначенного пути. Царь самый явный и нигде не показывающийся, вмещающий всё и позволяющий думать, что Его нет.
…Тучи, создающие видимость осмысленной драмы:
– Встать!
И я понял: отныне оно никуда от меня не уйдет. Эсхатология в сапоге, апокалипсис, шагаю, полнота счастья. Как ему трудно, как ему сладко, в спорадическом виде, в надежде, в надежде всегда сомнение: неужели попустишь? Сито, сети, просится в плотину, с печалью неисполненности в сердце, ведь это не перейдет, застрянет, останется. Богатство, трудно богатому, сторож, стрелочник, стрелочник всегда виноват…
Мы не пишем фразу, она пишет себя, а мы лишь проясняем по силе возможности скрытый в ней, скопившийся смысл.
…Может быть, истинное искусство обнаруживает всегда неумение, отсутствие мастерства. Когда автор не знает, «как это делается», и начинает писать неподражаемо, невпопад с принятым образцом. Во всяком случае, в гениальных созданиях открывается подчас что-то граничащее с самым элементарным невежеством.
Хуже нет, когда из-под слов торчит содержание. Слова не должны вопить. Слова должны молчать.
От дождя, который не хочет уняться, появляется чувство уютности – не сидя в тепле, а напротив – замерзнув, промокнув, странное чувство пропадания, немного одушевленное нежностью – не поймешь, к кому и к чему? даже к этой дикой сырости, к этому не думающему о людях дождю. Пусть идет.
27 сентября 1967
Подошел к осине: – Дрожишь? С тех пор всё? Ну дрожи, дрожи.
Колдун на базаре. Женщине:
– А ты – иди! Тебе я ничего не скажу.
Через два часа ее задавил грузовик.
Колдун, сказавший парню, где у его жены родинка (ту родинку, понятно, кроме парня никто не мог углядеть).
И девушке: – Ты один раз вешалась. Один раз топилась. Ничего – на третий раз уйдешь.
Я заметил, что моя тень шла рядом со мною, но двигалась помимо меня.
– В зеркале, видимо, есть как что-то нечистое, так и зазорное.
Зачем в картины и фотографии так часто вставляют зеркало в виде реки или озера, с тем чтобы дополнить предмет его же собственным отражением, которое по обыкновению смотрится и живописнее и чуть ли не ярче подлинника?.. Предмет, удвоенный в зеркале или в воде, кажется цельнее, единственнее. Он не раздваивается, но удваивается, помножается сам на себя. Он замыкается на себе в этом пребывании на границе своей же иллюзии.
В отражении важно, что оно перевернуто, во-вторых – подернуто зыбью, дымкой, оно струится, и дышит, и проступает из тьмы, со дна водоема. Это как бы тот свет предмета, его психея, идея (в платоновом смысле), заручившись которой, тот крепче высится на берегу. Зеркало его подтверждает, удостоверяет и вместе с тем вносит долю горечи, тоски, недостижимого далека, становясь по отношению к миру легендой о граде Китеже.
…Поэзия Анны Ахматовой похожа на пруд или озеро, отороченное лесом, или на зеркало, в котором все кажется менее реальным, но более выпуклым, чем в действительности. Отражение яркого неба и блистающих облаков, которые становятся еще ярче – в черной заводи, где черти водятся, но на поверхности ни зыби, ни плеска: всё в невидимой тишине, в озарении темного, подводного света. Заливка. Белое на черном. Странная чернота в белизне. Зависимость от фона, который по-зеркальному гладок, глубок, траурен, на котором контур предмета резок и в нем посверкивает что-то пронзительное, магическое, непонятно откуда берущееся, потому что – «ничего нет».
То же: низкий, бархатный фон ее голоса и рокочущая манера читать, и ахматовское платье, глухое, закрытое. То же: традиционность Ахматовой, ее приверженность классическому зеркалу стиха, в которое она смотрится пристально и где, как в венецианских затонах, отражается и нынешний день, и живая мелодия речи, торжественно, авторитетно – на неподвижном фоне Лирики прошлых столетий. В ее стихах – до нее кто-то прошел – как в зеркале, когда взглянешь внезапно, кажется – кто-то только что был и вышел, и вещи настороженно прислушиваются – к отсутствию.
Зеркало – анаграмма ее стиля. Жест застылости, знак почета и немоты, величия. А цвет – всегда черный. Кого ни спроси: какого цвета Ахматова? – и всякий скажет: черного. И когда она вызывающе произнесла: «Из мглы магических зеркал», – ей, разумеется, не мог не припомниться Пушкин с его «магическим кристаллом», сквозь который все так ясно светится, а у нее зеркальная мгла, откуда никто не выглядывает, но скользят по стеклу титулованные отражения. Таков же аристократизм Ахматовой – алмазное зеркало в обрамлении Санкт-Петербурга, Царского Села (Версаля), которые под стать ее позе, всегда позе, играющей роль фона. Точнее сказать, роль и фон, на котором она играет, медлительная, важная, чтобы не потревожить эту завороженную воду, – слились в позе Ахматовой, в неподвижном, зеркальном состоянии Королевы.
В алмазном зеркале немотствующих водСияют облаков живые очертанья…Из орудий к созвездиям ближе всего трезубец.
От кошек почему-то есть ощущение, что у них голубая кровь. В буквальном, окрашивающем значении слова.
Метафоры и сравнения бывают по сходству, по смежности, а то и по удаленности уподобляемых друг другу рядов. Но здесь же таится возможность фантазировать средствами речи, вглядываясь в темноту какого-нибудь предмета до тех пор, пока у него не появится удивленная мордочка. Вот эти личики, когти, крылья, хвосты, языки, мелькающие в вещах, пожалуй, пуще всего привлекают меня в метафоре, способной обратить серый тетрадный лист в струящийся, звероподобный орнамент.
«– Солнышко!» – привычно в письмах женщины именуют мужчин, не имеющих отношения к солнцу. Но взглянув на него, я сразу подумал, что вот этот старец и есть то самое искомое «Солнышко». Серенькое сияние исходило от его бороды, торчащей редковатыми лучиками, сквозь которую легко обрисовывалось всегда осклабленное, как сам он выразился однажды со скромностию, рылообразное лицо. Торжественная и немного строгая доброта бродила и плавилась там, и с молчаливых уст спархивали без конца и удалялись в пространство кругиулыбки. Я только однажды видел его глубоко скорбящим – когда умер большой начальник, что не вызывало, понятно, у нас ничего, кроме злорадства. – Чего же тут расстраиваться? – удивился я слезам старика, немало потерпевшего в жизни от того же чиновника. – Да ведь как же! ведь его душа сейчас прямо в ад идет! – сказал он в безмерной тоске, не переставая, впрочем, улыбаться.
…Ему противостояла Луна, круглолицая, бритая, жалостливая по-бабьи, слегка осповатая, с носом картофелиной и потупленным конфузливо взором, похожим на глазок в той же картофелине, упрятанный в припухлости щек. Но я ни о чем не догадывался, пока в какой-то вечер не заговорил о разбойнике, распятом вместе с Христом. Не о том, который покаялся, но о втором разбойнике, который, как известно, не поверил в Христа и погиб.
– А вы знаете, – сказал он загадочно, и у меня по спине пробежали мурашки, – и второй разбойник спасен… Да, он тоже спасся… Только об этом никто не знает…
И из всезнающего глаза – слеза, и потупился, и я понял вдруг, что это он о себе говорит, что передо мною тот самый, неисповедимым путем спасенный разбойник, и он же парный пророк – из тех, что еще придут или уже пришли, Илия или Енох…
На старинных картинах, гравюрах Солнце и Луна размещались по сторонам, в виде человеческих ликов. Солнце и Луна, два Завета, две Церкви, два пророка, две масличные ветви… И пускай Солнце старше и выше, молодая Луна ему дана в симметрию – чтобы светить по ночам, когда спят.
– И от сих восхищений я просыпаюсь.
Перед допросом в тюрьме у нее было видение. Явились во сне Никита Мученик и Иоанн Воин:
– Раиса, помнишь ли слово «не знаю»?!
«Ниточка жизни». Для этой «ниточки» долго жили: Иоанн – 114 лет, Никита – 95. Нельзя помереть – «чтобы не перервалась»: остальцы Соловецкого монастыря. В 1732 г. Никита, возвращаясь от Иоанна с Топ-озера, направлялся в Ярославль. По дороге его по незнанию завернуло в село Сопелки, куда сошлись в ту же пору 30 других остальцев. Неделю постились, тянули жребий – кому быть Преимущим. Каждый за себя не ручался, опасались: «не повредился ли я, поминая некрещеных?» Один Никита – «неповрежденный». От него – отсюда пошла и продолжилась неповрежденная ниточка староверческого благочестия – секта бегунов (в просторечии), церковь истинно православных христиан-странников.
– Остальцы!.. Верный остаток!..
«Остаток обратится, остаток Иакова – к Богу сильному. Ибо, хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится; истребление определено изобилующею правдою…»
Исайя, 10, 21–22
– На лбу шишка набита, на плече свищ – от непрестанных молебствий. Крестит очко в уборной, когда садится. Одним словом – погряз в христианстве.
– Этот старец настолько светел, что иной раз сама одежда белеет на глазах у собеседника.
– Когда он впервые забожился – ну, думаю, сейчас его гром разразит, крыша провалится. Я даже пригнулся…
(На первом допросе)
– Выслушал он все разъяснение Апокалипсиса – и про зверя, и про дракона, и что значит число шестьсот шестьдесят шесть (имеющий мудрость сочти), – внимательно слушал, часа два, не перебивая. Потом встал, потянулся, обошел вокруг моего стула и с тоской говорит:
– Ох, попался бы ты мне два года назад, ведь я бы с тебя всю шкуру спустил!..
– Смеялись над ним. Особенно один подполковник из бытовиков. Я, говорит, подполковник, а никакого Бога за всю свою жизнь не встречал. Где он – твой Христос? Хоть кто-нибудь когда-нибудь его видел?
– А я, отвечает, Его каждый день вижу.
Наука своим глазам не верит и все спрашивает – а как это может быть? Спрашивая и силясь понять, она утолщает стены, отделяющие от истины. Уж на что воздух прозрачен – так нет, он состоит, оказалось, из кислорода с азотом плюс углекислый газ; нам кажется в первый момент, что мы пошли дальше и глубже воздуха – в действительности наткнулись на новую, еще более толстую, сумму вопросов и принимаемся выяснять, что такое азот, кислород, пока не установим, что даже один кислород плотнее и толще воздуха, не просто О, но О2 (не считая азота); из утолщенной стены вещества в итоге перепадает кое-какая пища уму и телу, но стена-то все растет и растет…
…Теперь я догадываюсь, зачем носили паранджу. Она имела значение занавеса в театре, который раздергивался в редкие дни спектакля. За четыре часа, что мы почти молчали и только смотрели друг на друга, я совершенно уверился, что лицо – окно, подобие иллюминатора, откуда можно выглянуть, куда возможно войти, а также откуда льется на землю мягкий свет. И поэтому у лица обратная перспектива, оно и уводит за собой, и просится наружу, наступает и атакует, и, глядя в лицо, не знаешь, в каком мире живешь и какой больше, глотаешь этот поток и тотчас уносишься в нем, и плаваешь, и тонешь. (И если бы люди внимательнее смотрели друг другу в лицо, они бы относились почтительнее и осторожнее к ближнему, заметив, что человек похож на хрустальный дворец, в котором кто-то живет, имея внутренний выход в то самое искомое царство…)
Короче, все пространственные законы лицом нарушаются. В нем мы, вероятно, имеем тончайшую перегородку, просвечивающую в оба конца – духа и материи. Лицом мы как бы высовываемся оттуда сюда и являемся в мир, расцветаем на поверхности жизни.
Огонь и вода, помимо окна, ближайшая ему аналогия – и на реку и на костер смотреть не наскучивает, и потом оно тоже течет, и уносит, и горит не сгорая… Можно было бы написать диссертацию о портрете или иконе под названием «Свет, зримый в лице».
– Мы живем в пальцах истукана! – сказал он в объяснение, почему мировая история видна нам сейчас как с птичьего полета. Удаленность не отдаляющая, но способствующая прояснению действия, подобно тому как становятся дальнозоркими к старости, и толща времени служит увеличительным стеклом, фиксируя в поле зрения древнюю Иудею, Египет, Вавилон, более нам очевидные, чем если бы мы смотрели на эти лица вблизи.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.