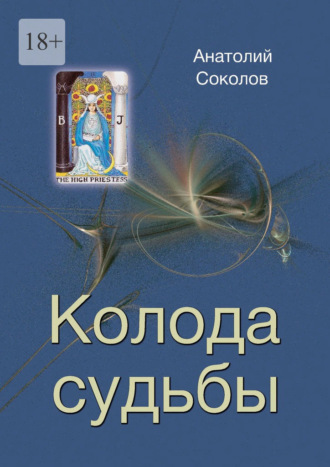
Полная версия
Колода судьбы
– А есть она, эта другая жизнь?
– Я думаю, что есть, в какой-то иной форме, но есть, иначе, зачем природа создала такие сложные организмы. Возможно, душа (ну, или информация, накопленная при жизни) переходит каким-то образом в другие тела, о чем говорят учения Востока. Мы не знаем и, видимо, никогда не узнаем, как мир устроен: «Ignoramus et ignorabimus» – это Дюбуа-Реймон. Видишь, какая я умная, а ты – «закон Архимеда не знаешь…»
Ну вот, пожалуй, это все, что мне карты поведали, вернее – твое подсознание через карты.
Конечно, не все в предсказаниях Любы соответствовало моим представлениям о себе и отношениям с миром, но в этом, несомненно, что-то было, какие-то смыслы пытались прорваться сквозь фильтры разума.
– Да, забавная сказочка у тебя получилась, – озадаченно произнес я. Ну не мог же я признаться, что поверил гадалке, что действительно почувствовал связь с чем-то иррациональным, потусторонним.
– Это не сказка, Федя, и не я ее придумала. Это твое подсознание на своем символическом языке нам поведало. А мы попытались настроить его ресурсы тебе во благо. Получилось ли это? Время покажет, символы – штука тонкая.
А теперь пойдем спать, мне завтра рано вставать, а у тебя во сне все разложится по полочкам.
На следующий день Люба уехала и увезла с собой частичку чего-то родного, давно забытого… Мое жизненное пространство вновь наполнилось напряжением и тревогой. Мелькнувший было образ возможного будущего померк, подернулся паутиной, растворился. Я пытался размышлять над тем, что запомнил из ее предсказаний, но вынуть заржавевший меч из ножен оказалось ох как трудно, как ни пытался я напрячь воображение, никакая гравировка не проступала. Я так и остался до поры до времени со своими «тараканами».
Повинуясь укоренившейся привычке доводить начатое до конца, я решил разобраться с этим Таро (разум требовал ясности). Я полез в интернет, но натолкнулся на горы разноречивой информации, от мистики и откровенных спекуляций на этой теме до серьезных философских и психологических исследований, что понял: оставшейся мне жизни явно не хватит, чтобы разобраться в этом. Задача повисла, осталась неразрешенной. Опора, которую я в очередной раз пытался найти, совсем не там, где она живет, в очередной раз ускользнула. Где-то глубоко внутри что-то саднило, какая-то заноза, оставленная Любой, не давала покоя. Накопившиеся болезни, опять подняли голову. Такого напора я не ожидал…
Я чувствовал, что сам не справлюсь. «Надо бы показаться врачам», – бубнила тревога. Но врачам я не доверял, кроме, пожалуй, моего товарища – Влада Крачевского – неисправимого циника и грубияна, но классного врача-невролога. Возможно, причины такого недоверия крылись в кармической плоскости, как утверждала моя сестра, но в карму я не особо-то верю. Хотя к медицине и правда всегда тянуло: интересно было, как работает машина, на которой ездишь.
Эх, был бы жив Влад…
Влад Крачевский
Травмированная в молодости спина болела уже который месяц. Я давно привык к этим болям, но на этот раз обострение затянулось, и я набрал знакомый номер.
– Неврология, Крачевский, слушаю.
– Привет, Влад, это Федор Надеждин. Проблема у меня опять с позвоночником, как бы мне с тобой встретиться?
– Привет, Федор! Ну приходи. Завтра часа в четыре ко мне в кабинет.
– Снимки свежие принести?
– Принеси, если хочешь, мне и так твой позвоночник по ночам снится, – съязвил Влад.
– Спасибо, до завтра.
С Владом меня свела спортивная жизнь. Мы тренировались у одного тренера, но в разных группах: Влад был старше меня на три года. Тренер часто объединял занятия, чтобы молодежь набиралась опыта и тянулась за «стариками». В своей группе Влад был лидером, он уже прыгал за шесть метров, а я только мечтал о шестиметровом рубеже. На одной из таких совместных тренировок я дал Владу бой, ничуть не смущаясь его опыта. В тот день прыжки у Влада почему-то не ладились, я же, наоборот, был в ударе, и получилось так, что мы сражались на равных. После этого поединка Влад меня зауважал, мы стали не то чтобы друзьями, но хорошими товарищами. Влад закончил медицинский, отслужил в армии и устроился врачом-неврологом в нашу районную больницу. Он быстро дорос до заведующего отделением, а я стал блатным пациентом. Магическая фраза: «Я от Крачевского!» была моим «золотым ключиком».
В назначенное время я заглянул в кабинет Влада.
– Можно?
– Заходи!
Влад жевал ватрушку с творогом и чем-то запивал прямо из старенького потертого термоса, похоже, сохранившегося со студенческих лет. Я обратил внимание, что лицо его было как-то странно искажено: левая щека отвисла, а глаз полностью не открывался.
– Сейчас дожую и займусь тобой, пообедать не удалось сегодня.
Покончив с едой, Влад спросил:
– Ну, что у тебя?
– Остеохондроз замучил.
– «Остеохондро-о-оз!» – передразнил Влад. – Ну тебе простительно, но врачам… За диагноз «остеохондроз позвоночника» по поводу боли в спине, записанный в медицинской карте, я бы увольнял по профнепригодности. Только в России, где все через задницу, но зато по-своему, остеохондроз превратили в метафору любой боли в спине. Десяток нозологических форм в одной метафоре. Разбираться-то не хочется. Хотя, с другой стороны, зачем разбираться, лечение все равно одно – МММ (мовалис, мидокалм, мильгамма).
Если кошке наступить на хвост, она будет кричать, но если ей заткнуть рот, то как бы все в порядке. Вот так и мы лечим: затыкаем рот проявлениям болезни, устраняем симптомы таблетками. А у каждой таблетки масса побочек, а от них другие таблетки со своими побочками… Зато по протоколу, и врач ни за что не отвечает, если бумажку заполнил правильно. Принцип «Не навреди!» перевернут на сто восемьдесят градусов: «Не навредить бы себе».
В большинстве случаев боль в спине – это боль мышечная. А мышцами как системой никто не занимается. Даже врачебной специальности такой нет. Специалист по горлу есть, а по мышцам – нет. А их в организме более 600, и это только скелетных. И все они, между прочим, друг с другом связаны. Вот и лечат мышцы и травматологи, и неврологи, и остеопаты, каждый своим методом, а целостного подхода к мышечной системе нет. Впрочем, как и к целостному организму.
Извини, наболело, излагай, в чем проблема?
– Спина болит, не отпускает, месяца три, все перепробовал: и таблетки, и мази, и упражнения.
– И ты от меня хочешь, чтоб не болела? Я тебе новый позвоночник не могу вставить. «Повеселились» мы в молодости, у меня вот с шеей проблемы, – проворчал Влад, рассматривая снимки, и скомандовал:
– Раздевайся и ложись на кушетку.
После осмотра Влад удовлетворенно сказал:
– Ну, все не так плохо на этот раз, позвоночник твой ни при чем. Миофасциальный синдром это называется: триггерные точки у тебя в квадратной мышце поясницы. Мышца перенапряглась, отдельные волокна не смогли восстановиться, слиплись, возникло болезненное образование, если понятным языком говорить. Наверное, поскользнулся, старался равновесие сохранить. Было?
Я припомнил, что боль возникла именно после такого случая, а я решил, что нерв защемило.
– Да, так все и было.
– Сейчас полечим, – сказал Влад и как-то кровожадно усмехнулся. Достал из шкафа тонкую иглу, такие иглы используют на процедурах иглоукалывания, и снова положил меня на кушетку. Нашел болезненное уплотнение в мышце и вонзил в него иглу. Сказать, что было больно, – значит, ничего не сказать.
– Потерпи, сейчас отпустит, – Влад все глубже погружал иглу в мышцу.
И действительно, боль из точечной, резкой, нестерпимой превратилась в разлитую, стала отдавать в ногу и постепенно угасла. Влад проделал такую же экзекуцию еще в нескольких точках и разрешил мне подняться.
– Ну-ка, подвигайся, полегчало?
– Полегчало! Влад, ты волшебник! – воскликнул я.
– Я не волшебник, а просто грамотный доктор. Таких докторов сейчас мало, цени, – Влад самодовольно ухмыльнулся и продолжил уже серьезно.
– Дома будешь свои триггеры разрабатывать сам. Ложишься на спину, кладешь теннисный мяч под самую больную точку, лежишь так, пока боль не пройдет те стадии, которые ты только что ощутил: усиление, иррадиация на периферию, уменьшение и тепло в месте давления, потом тихонько катаешься на мячике, прорабатываешь окружающие ткани минуты две, три. Никаких таблеток и упражнений пока тебе не надо. Понял?
– Понял.
Я с благодарностью посмотрел на Влада, и вновь меня поразило его перекошенное лицо.
– Влад, извини, а что у тебя с лицом?
Влад кисло поморщился.
– А-а… Видимо, тромб проскочил, что-то типа легкого инсульта.
– Инсульт?! И ты не лечишься, работаешь?!
– Да лечусь… И работаю, кому-то надо с вашими «остеохондрозами» разбираться. Некому работать, врачей грамотных не хватает: штат сократили в очередной раз, оптимизация по-российски… твою мать…
Это была наша последняя встреча.
«Неоконченный проект»
«…Врач – это средство повышенной опасности. Встреча с врачом – это как выезд на автомобиле на встречку, никогда не знаешь, чем закончится. Твое здоровье не нужно никому, кроме тебя самого. Работа у нас такая, с болячками разбираться. Работу можно любить, можно ненавидеть, можно просто отбывать неизбежное общение с пациентом по принципу: «Ну чего пристал, видишь, я работаю, отвали». «Люди в белых халатах… у смерти на пути…», как там, в песне поется? Мифы все это, да и сама медицина – набор мифов. Любой диагноз – это, по сути, миф, возникающий в сознании врача после сбора анамнеза. А врач подсознательно будет искать ту болезнь, которую он знает и умеет лечить. И вот этот миф ставится в основу твоего лечения, как правило, совсем небезобидными препаратами. А врачи в свое оправдание такую формулу придумали: «Если лекарство не имеет побочек, оно неэффективно». Иногда удается угадать верное направление и помочь организму справиться с недугом, а чаще промахиваемся и лишь усугубляем болезнь. Живой организм – слишком сложная штуковина, не умеет медицина с ним обращаться, далеко не все понимает, но пытается лечить…» – я вспомнил эту «разоблачительную» тираду моего товарища, которого, увы, уже не было на этом свете, по дороге в районную поликлинику, куда все-таки решил обратиться за рецептом на снотворное. Сон – великий целитель, а последнее время я почти не спал.
Невролог, к которому я пришел на прием, видимо, с первого взгляда распознал мое депрессивное состояние и, выслушав просьбу, отправил к психотерапевту, соврав, – ну, конечно же, во благо, – что им запретили выписывать снотворные.
На двери кабинета висела табличка: «Психотерапевт, Вячеслав Алексеевич Грачев». Очереди, к счастью, не было. Я постучался:
– Можно?
– Да, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, слушаю вас.
– Я на минутку, доктор. Невролог не хочет выписывать снотворное, говорит, что это только через вас. Доктор полистал медицинскую карту и пристально посмотрел на меня.
– А что вас беспокоит? Бессонница просто так не возникает.
– Это долгая история – длиною в жизнь – не хочу отнимать ваше время.
– Ну, минут 30 у нас есть, обычно этого хватает, расскажите вашу историю.
Я совсем не собирался выворачивать душу, даже перед психотерапевтом, хотя интерьер кабинета располагал к откровенности. Я впервые попал к психотерапевту и был немало удивлен: в кабинете стоял полумрак, окна были задернуты плотными шторами, за спиной психотерапевта располагался небольшой диван, в углу на журнальном столике красовался чайный сервиз, а у стены напротив стоял большой книжный шкаф, набитый книгами и… детскими игрушками. В глазах доктора читалась готовность помочь и даже что-то похожее на сочувствие. «А вдруг? – подумал я. – Вдруг этому доктору удастся найти корни всех моих проблем?». Это была соломинка, брошенная утопающему, и я ухватился за нее. Выговориться-то так хотелось.
Начал я, как полагается, с детства.
– В детстве я тянулся к музыке, к книжкам, но не модно это было, не для мальчика. Хлеба на этом не заработаешь. А сам я не понимал и стыдился себя за чувствительность излишнюю. Как же – мужиком хотел стать, как отец – морской офицер, воевавший с фашистами, как дядя – моряк-подводник, в конце концов, как сосед Генка, который за команду мастеров играл в хоккей.
Нас учили, что наука, техника, инженерия – это главное, определяющее прогресс. Гуманитарии не в чести были. Литература, искусство, философия всякая – второстепенно, прогрессу они не нужны и даже вредны, это для «гнилой интеллигенции». Эмоции нельзя напоказ, их надо сдерживать, особенно мужикам.
Дома радиола появилась, заглянул как-то вовнутрь: там лампы какие-то горят, интересно стало, потом друзья в радиокружок затянули, стал сам карманные приемники мастерить. Ну вот, и выбрал я радиотехнику своей профессией. Хотя способности к точным наукам весьма скромные были. Математику, уравнения всякие не любил, я за ними жизни не видел, но надо было, без нее в технический вуз не поступишь. Пришлось выучить. Математик у нас в школе толковый был, умел в нас теоремы вбивать, натаскивал на типовых задачах. Ему через это большое уважение было и от учителей, и от учеников, и от начальства. Почти все его ученики, кто хотел, конечно, в технические вузы поступали. И я поступил на радиофак – один из самых престижных в то время факультетов. А чего я хотел тогда, в молодости, я и сам не знал толком… Литературу школьную не любил, не было хороших учителей, «правильный» образ Фамусова из «Горе от ума», который заставляли заучивать, до сих пор в печенках застрял. «Зачем мне прошлое ворошить, сейчас время другое, интересы другие», – думал я. Вся классика для меня под этим девизом прошла и была надолго похоронена, в зрелые годы наверстывал упущенное. А книжки, те, что нравились: приключения, фантастика, про космонавтов, про ученых – любил. Даже сам сочинял рассказы всякие. И музыку любил.
Семья у нас музыкальная была: дед на гитаре играл, бабушка – на балалайке, мама – на фортепиано. В детстве моем мы одной большой семьей жили в доме деда – маминого отца. По праздникам, когда гости собирались, немного выпив, взрослые всегда пели песни. Отец, правда, не пел, но тоже музыку любил, помню, маму просил, когда гости расходились: «Аленка, поиграй Шопена». Меня тоже пытались к музыке приобщить – слух у меня был неплохой, взрослые это замечали, но не сложилось. В музыкальной школе, куда меня повели на прослушивание, мест на класс фортепиано уже не было, предложили на виолончель поступить, но я отказался: представил, как с этой бандурой через двор ходить буду, как пацаны гоготать начнут… Родители наняли частного учителя по фортепиано, мне хотелось импровизировать, сочинять, думал, она меня этому научит, а тут – гаммы… этюды… гаммы… Надоело. И школьная учительница пения меня всячески пыталась в хор завлечь: голос почувствовала, но там девчонки одни были – застыдился, не пошел. А потом спортом увлекся, и музыка отошла на второй план. Жалел, когда постарше стал, да и сейчас жалею, что не получил музыкального образования, бросил, на спорт променял. Впрочем, со спортом тоже не сложилось.
Тренер ДЮСШ уговорил меня заняться легкой атлетикой. В то время я быстро рос и показывал неплохие результаты: выигрывал первенство города, области, был призером первенства России. Но расти я скоро перестал – и результаты перестали расти, стали преследовать травмы. Но я был уже отравлен славой, долго не мог принять неизбежное расставание со спортом, которое все-таки произошло после очередной серьезной травмы.
С работой немного лучше получилось. Хоть и с трудом, но радиофак я закончил. Правда, быстро понял, что не мое это, что ошибся я с выбором профессии. Думал, меня научат приемники, передатчики разрабатывать, чтоб с миром общаться. А меня учили ракетные системы проектировать и обслуживать, чтобы этому миру грозить из всех углов «необъятной отчизны». С третьего курса хотел уходить, но родители отговорили, мол, получи специальность, ведь столько уже труда затратил, а там можешь и во второй вуз поступить, если захочешь. Они лукавили, знали, что будет потом. На пятом курсе я женился. Жизнь в СССР – та, что напоказ, – пуританская была, чтобы получить доступ к телу девушки из приличной семьи, надо было на ней жениться (ну или хотя бы пообещать), внебрачные связи порицались, вот и пришлось мне себя убедить, что проснувшееся сексуальное чувство – это та самая любовь, большая и неповторимая, и есть. Никто нас не учил в этих вопросах разбираться. Что-то внутри сопротивлялось, но инстинкт победил, я сделал предложение. Про второе образование, конечно, пришлось забыть, семью надо было обеспечивать. Диплом я, однако, на отлично защитил, руководитель грамотный попался. Я за время дипломирования больше знаний получил, чем за пять лет учебы, опять интерес к профессии прорезался. Быстро до ведущего инженера дорос. На руководящую должность не хотел, понимал, что нервная система слабая, что с «железом» проще работать, чем с людьми. Да и не только в этом дело, думаю, – свободы хотелось, творчества, а чем выше должность, тем более зависимым ты становишься, как ни странно, на первый взгляд, это может показаться.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.


