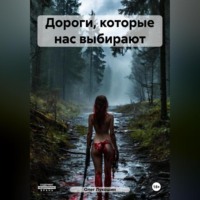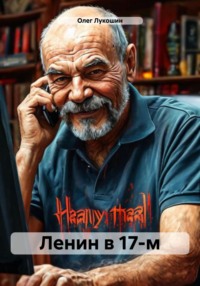Полная версия
Варварские строки
– Он не жених, он мой муж, – с наигранным оскорблением ответила Марина.
"Ведь муж, да?" – вопрошали её глаза.
– Ничего себе, – хохотнула женщина. – Ну ты даёшь стране угля!
Она сняла обувь, прошла к столу, поставила ведро с сумкой на пол и осмотрелась.
– И огурцы успели найти, и аджику… – задумчиво смотрела она на банки. – Ладно, ешьте, – махнула потом рукой, – всё равно испортились бы.
Нагнувшись, она достала из сумки привезённую с собой еду. Буханку хлеба, пакет молока, а также куриный окорок в целлофановом пакете.
– Как тебя звать, муж? – спросила она Колю.
– Его звать Николаем, – ответила за него Марина. – Я в него сразу влюбилась.
– Ольга, – кивнула женщина. – Костёр разведёшь?
– Разведёт, разведёт, – пообещала Марина. – Где спички?
Взяв у матери спички, она потащила Колю наружу.
– Терпеть её не могу, – говорила ему на ухо. – Из-за неё сюда и приехала. Я ведь из дома сбежала. Два дня жила спокойно, и вот – она тут.
– Я сразу догадалась, – кричала из дома мать, – что ты сюда уехала. Ладно, думаю, пусть пару дней поголодает, всё равно никуда не денется.
– Слышишь? – толкнула его в бок Марина. – Стерва, да?
– На твоём месте, – сказала Старая Сука, – я бы отсюда смоталась. Гнилые людишки. Неизвестно, что у них на уме.
Повертев в руках коробок спичек, Коля принялся разводить костёр. Марина подтаскивала сучья.
– Ты даже представить себе не можешь, – жаловалась она, – какая она злая, моя мамашка. Сейчас добренькой притворяется, не верь ей. Она как начнёт дурью орать, бьёт меня чем попало, матерится. Бухает по чёрному, мужиков в дом водит, трахается с ними как кошка. Ты смотри, не попадись к ней, а то она и с тобой захочет.
Костёр потихоньку разгорался. В саду стояла помятая печка-буржуйка, разжигали в ней. Коля, сколько себя помнил, всегда любил огонь. Сидеть в кромешной тьме у добродушного и таинственного огня – что могло быть лучше. Языки пламени заплетались в причудливые узоры, манили. Ничего не хотелось больше, огня было достаточно, на нём сходились все стремления и потребности.
– Следите за водой, – поставила Ольга на печь кастрюлю. – Как закипит, скажите.
– Ладно, – отозвалась Марина.
Ольга не торопилась уходить.
– Коля, – провела она ладонью по его волосам, – а сколько тебе лет?
– Не знаю, – буркнул он.
– Слышала, не знает! – воскликнула Марина.
– Ну как же так не знает, – не убирала руку мать, – все знают свой возраст.
– О своём молчи лучше, – снова попыталась уколоть её дочь.
– Почему молчи? Я ещё очень молодая девушка.
– Девушка! – хмыкнула Марина. – Старуха скажи.
– Мне всего тридцать два. Я ведь Маринку в семнадцать родила. Может, чуть старше выгляжу, но в душе я совсем ещё юная.
– Слышишь? – толкнула Марина Колю в бок. – Совсем свихнулась баба, да?!
Мать дала ей подзатыльник.
– Ты прекрати со мной так разговаривать! Ты ещё сопля зелёная Я шучу, шучу, а потом как врежу – не поздоровится.
– Во, началось, – плотнее прижалась к Коле девочка.
– А Коле наверно лет двадцать, да ведь, Коль? – продолжала Ольга, уже добродушно. – Самый лучший возраст. Ни забот, ни хлопот.
– Хватит паясничать, – попросила Марина. – Занимайся своими делами.
Присев, Ольга ткнула её кулаком в бок.
– Ещё хочешь?
– Хочу, – огрызнулась девочка.
Мать врезала ей ещё раз.
– Прекрати! – ударил её по рукам Коля. – В морду захотела?!
Ольга расплылась в улыбке.
– Ого, суровый какой!
Марина с гордостью и обожанием смотрела на Колю. Ольга снова его погладила.
– Да шучу я, чё вы… За водой сходишь, Николай? Ещё понадобится, а больше нет.
– Он не знает где вода, – сказала Марина.
– Ну пойдём, я покажу.
– Я сама покажу, – поднялась Марина на ноги. – Пойдём, прогуляемся. А то на эту смотреть – с ума сойдёшь.
Коля не возражал.
– Коля! – недоумевала Старая Сука, – неужели тебе нравится с ними, а? Ну я понимаю, поесть, поспать – ну и всё, хватит.
– Отстань, – буркнул он.
Старая Сука неодобрительно сморщилась.
– Видишь, как мамашка начала к тебе подбираться, – говорила Марина. – Ей завидно, что я тебя отхватила, вот она и злится. Ты не поддавайся ей, сопротивляйся. Я уж в любом случае лучше, да ведь?
– Конечно.
Из-за туч первый раз за день выглянуло солнце. Снова прятаться не стало. Небо очищалось, и остаток дня обещал быть солнечным и тёплым.
Вернувшись с ведром воды, они легли загорать. Марина принесла из дома облезлое покрывало с многочисленными дырами, расстелила его между грядками и пригласила Колю присоединиться.
– Давай голыми, – предложила она. – Всё равно никто не увидит.
– Мать твоя увидит.
– Ну и хрен с ней. Лопнет только от завидков.
Разделись догола.
– Какой ты грязный! – гладила его по спине Марина. – Прямо целые комья отваливаются. Давно не мылся?
– Не твоё собачье дело.
– Ну ничё. Домой приедем, помоешься.
Ольга возилась у печки. С усмешкой посматривала на них.
– Мне так нравится тебя по попе гладить, – говорила Марина. – Знаешь, это мечта детства. Я так и представляла себе: рядом со мной лежит муж, мы оба голые, а я глажу его по попе.
– Радуйся, – сказал Коля. – Твоя мечта сбылась.
Сзади раздались шаги, по земле распростёрлось ещё одно, не менее ветхое, одеяло, и Ольга, тоже голая, улеглась рядом с ними.
– Можно к вам? – улыбнулась.
Марина скривилась.
– Фу, дряблые титьки свои не светила бы!
– А они не дряблые, – тронула себя за грудь Ольга. – Они вон ещё какие тугие! Вот потрогай, Коль.
– Не хочет он твои титьки трогать!
– А вдруг хочет? Коль, хочешь?
Коля вытянул руку и потрогал её за грудь.
– Ну как? – спросила Ольга.
– Дряблые.
– Вот так-то! – обрадовалась Марина и даже захлопала от радости в ладоши.
– Ничего вы не понимаете, – обиженно ответила Ольга.
Старая Сука загорала здесь же.
– Я тебя понимаю, – говорила она, – сразу две бабы и обе хотят, но всё же не забывай про меня, ладно. Они сегодня появились, а я была с тобой всю твою жизнь. У тебя ещё много может быть женщин, и я с этим с горестью смиряюсь. Женщин может быть много, но одной-единственной останусь только я. Так ведь, Николай?
– Так.
– Смотри, как ноги раздвинула, – шептала ему на ухо Марина. – Словно говорит: ложитесь на меня, кто хочет.
Она прыснула от своих собственных слов. Коля тоже не удержался от смеха.
– Побрилась бы хоть немного, – снова шептала Марина. – А то там заросли, как в Африке.
Оба снова рассмеялись.
– Я всё слышу, – подала голос Ольга. – Тебе, сучке, жопу надо надрать. А лобок бреют только такие шлюхи, как ты.
– Я ничего не брею, – огрызнулась Марина.
– Потому что у тебя ничего не растёт.
– Вот и замечательно! Коле именно это и нравится.
– Откуда ты знаешь?
– Да уж знаю.
– Коль! – спросила его Ольга. – Тебе как больше у женщин нравится – когда бритая, или небритая?
– Бритая, – ответил он.
– Вот тебе! – обрадовалась Марина.
Ольга изобразила недовольную мину.
– Обед готов, – сообщила она вскоре. – Если хотите, пойдёмте есть.
Коля хотел есть всегда. Марина тоже проголодалась. Одевшись, все направились в дом.
– Суп с крапивой, – разливала Ольга суп по тарелкам.
– Да, только такой ты и можешь, – подначивала её Марина.
– Очень вкусный. Коле понравится.
На Колю, который не ел суп уже несколько месяцев, горячая, дымящаяся похлёбка произвела магическое действие. Он съел две тарелки. Тепло разливалось по внутренностям, сытость заполняла желудок, и мозг расслаблялся, позволяя проникнуть в тело хорошему настроению.
– Не забывай, Николай, – предупредила его Старая Сука, – что за тарелку баланды многие люди продавали себя и близких.
Был ещё горячий компот из малины и черноплодной рябины. Коля раскраснелся, размяк и глупо улыбался, обводя женщин осоловевшим взглядом.
– Надо бы ещё грядки прополоть, – сказала Ольга, – и ягоды собрать. Этот год мало совсем. Поможешь, Коля?
– Помогу, – кивнул тот.
– Вот и ладно. Ну а потом и домой можно. Что ещё тут делать, правда?
Третья глава
Было солнечно и жарко. Хотелось прохлады, тени, невинной влаги во рту. Александр Львович сидел на веранде, просматривал газеты и пил сок. Елена Васильевна присоединилась к мужу.
– Хочешь? – предложил писатель напиток.
– Хочу.
Он налил ей из кувшина стакан апельсинового сока. Сок был прохладный и вкусный.
Вепрь, старый и заслуженный пёс, нехотя вылезал из своей будки на солнцепёк. Был он сейчас тихий и почти не лаял. Все понимали, что он доживает свои последние годы и заслуживает право на отдых.
– Читала твоё новое, – сказала жена. – Очень впечатляет.
– Серьёзно?
– Ты проявил в них свою истинную сущность.
– Какую?
– Порнократа.
– Ха! – хохотнул Александр Львович.
– У тебя и раньше то ляжка, то титька на каждой странице сверкали, но здесь ты превзошёл себя. Отборнейшая порнография!
– Ты говоришь это, – поморщился Александр Львович, – как бы осуждая?
– Да нет, что ты!
– Какие-то праведные инстинкты в тебе проснулись. Я с тобой не согласен насчёт порнографии, но даже если это так, то что из этого?
Елена смотрела на него прищурившись.
– Что из этого, что? – продолжал Александр Львович. – Вот ты говоришь "порнография" и словно земля после твоих слов должна разверзнуться. А я рухнуть в этот проём. Ну и что, что порнография? Если она нужна для передачи замысла, для создания верного образа – она необходима. А всё это моральное блеяние уже не актуально.
– Но, видишь ли, существуют определённые каноны, которые, хочешь ты того или не хочешь, приходится признавать.
– Спорное утверждение. Но, допустим, это так.
– Так вот, эти каноны заставляют занимать определённые жизненные позиции. Позиция порнографического писателя, к которой ты явно стремишься и к которой, как я сейчас понимаю, стремился всю жизнь, это позиция писателя-маргинала.
– Замечательно! Писатель-маргинал – это голубая мечта моего детства.
– Может быть. Но вот в чём дело… Этой позиции надо соответствовать социально. Вот если бы ты был нищим и обозлённым неудачником, который сидит где-нибудь за Уральским хребтом, никем не признанный и без всяких шансов пробиться – вот тогда бы твоя порнография смотрелась более-менее естественно.
– Потому что на неё было бы всем насрать, да?
– А сейчас ты – заслуженный и уважаемый литератор. Член союза писателей, лауреат всевозможных премий. Ты преподаёшь, у тебя круг общения соответствующий. Твои порнографические потуги будут выглядеть весьма странно.
– Ах, ну да, ну да! Как я людям в глаза посмотрю!? Как мои ребята это воспримут!?… Да они ещё похлеще пишут!
– Они так пишут, потому что бестолочи и не знают, что их никто печатать не станет. А ты в твоём возрасте уже должен задумываться о своём положении в обществе.
– Ну вот, сказанула! Так что же, по-твоему, самое главное для писателя – это карьера, а не свобода мыслей и эмоций? То есть до тридцати ещё можно радикализм проявлять, до сорока уже постыдливей пиши, до пятидесяти ещё туже гайки закручивай, ну а после пятидесяти – так вообще порожняк какой-нибудь гони. Лишь бы высоконравственный был.
– Ты это всё вульгарно рисуешь, но в общем-то примерно так и должно быть. Да, дорогой мой, самое главное для писателя – это его карьера.
– Ни хера подобного! И знаешь почему? Потому что положение в обществе – это миф. Миф, который ни к чему не обязывает. В союзе писателей я с момента вступления не был и до сих пор не понимаю, зачем он мне нужен. Премии, о которых ты говоришь, все до одной – независимые! Их ни государство, ни твои почтенные и сказочные пердуны-разложенцы мне не давали. Мне давали их критически настроенные, думающие люди. А преподавательская деятельность – это вообще несерьёзно, потому что я веду её на общественных началах. Это и деятельностью-то назвать нельзя. Я это литературное объединение исключительно из любви к профессии взял. И никто под этим не подразумевает тяжкую моральную ответственность, и никакого сверхъестественного социального положения из этого не вытекает.
– Вот приедут к тебе сегодня ученики – так им и скажи об этом.
– Они об этом лучше меня знают. И никакие они не ученики, что за идиотское слово ты нашла! Никто их так не называет, кроме тебя. Они – мои коллеги и у меня с ними совершенно равноправные отношения.
– Но кроме твоего социального положения, в которое ты отказываешься верить, твоя порнография и по другому удар наносит.
– По чему это?
– Она заставляет задуматься, а всё ли в порядке у тебя с головой? Из каких глубин исходит это твоё влечение? Может, ты не только писать об этом любишь?
– Вот он, психоанализ!.. Всё им заканчивается… Да, я люблю трахаться!
– Видно, не только со мной…
– Э, оставь! А глубины, про которые ты говоришь – они у всех одинаковые. Просто одни их признают, а другие стыдливо умалчивают.
– Но согласись, что ты живёшь не в обществе свободных и естественных людей, которые всё понимают. Люди глупы и косноязычны, они чёрт знает что о тебе начнут говорить.
– Просто ты боишься, что тебе на работе что-то не то скажут. Понятно.
– Я тоже от людей завишу и никуда от этого не деться.
– Вот гляжу я на тебя, Лен, и какие-то катастрофические изменения в тебе наблюдаю. Где та убеждённая хиппи, которая, не стесняясь, давала любому, кто ей нравился? Которая не думала ни об общественном мнении, ни о своём положении?
– Я была хиппи, когда ещё не работала и жила на родительские деньги. Да, тогда всё было проще. А вот сейчас, когда приходиться самой себя кормить…
– Ох ты, ох ты! А я как бы тут не при чём, значит. Не пришей к кобыле хвост, да?
– … то задумываешься о том, что чего стоит и как надо себя вести.
– Задумывайся, задумывайся. Может, к чему путному придёшь.
Несколько мошек вяло атаковали лежащего на поляне Вепря. Так же вяло, небрежным поднятием лапы, тот от них отмахивался.
– Да и потом, – снова заговорил Александр Львович, – хоть ты и называешь это порнографией, мы с тобой прекрасно понимаем, что это не так. Никакая это не порнография.
– Не знаю, не знаю, – отозвалась Елена.
– Просто ты злая сегодня и говоришь мне назло.
Жена усмехнулась.
– Ну, если тебе приятно так думать…
Вепрь, дремавший всё это время, вяло тявкнул. Открыл глаза, приподнял голову и очень осмысленным, умным взглядом посмотрел на хозяев.
– Есть, что ли, захотел? – предположила Елена.
Она встала из кресла и, спустившись по ступенькам, сошла на дворовую поляну. Вепрь встретил её благосклонным шевелением ушей. Елена Васильевна заглянула в миску – еды в ней было предостаточно.
– Есть еда, – повернулась она. – Вроде ничего не ел даже. Не заболел ли, а? – потрепала она пса по голове.
Вепрь, расценив ласку хозяйки как приглашение к игре, вскочил и приветливо залаял, готовый в любую секунду кинуться за брошенной в кусты палкой.
– Здоровый, – сделала вывод Елена.
Напрасно взбаламученный пёс снова улёгся в траву и прикрыл глаза. Елена Васильевна осматривалась по сторонам.
– Саша! – позвала она мужа. – Посмотри, трава какая высокая!
– И что?
– Почему ты её не пострижёшь?
– Некогда.
– Я тебе уже давно говорю об этом. Займись, а. Прямо сейчас, всё равно делать нечего.
– А косилка работает?
– Работает, с чего ей не работать.
Александр Львович раздумывал.
– Ладно, сейчас. Дочитаю вот.
Все инструменты, в том числе и газонокосилка, лежали в сарае. Сарай этот был возведён Низовцевым собственноручно, чем он весьма гордился. Он не был большим любителем физического труда, но порой заниматься им приходилось. Собачья конура, поручни на веранде, почти весь забор являлись наглядными примерами его трудовых талантов.
Косить траву было делом приятным, особенно по такой погоде. Трава вымахала по колено, а у заборов доходила и до пояса. Тропинка от ворот к дому оставалась единственным свободным маршрутом, но и он зарастал под натиском поросли. Поленившись с полчасика, Александр Львович взялся за косьбу.
После обеда к нему приехала молодёжь – члены литературного объединения, которое он возглавлял вот уже два года. Обычно заседания проходили в Доме Культуры одного московского завода, который любезно предоставлял известному писателю комнату для творческих нужд, но на этот раз Александр Львович решил пригласить некоторых ребят к себе домой. Они прибыли в количестве трёх человек.
– Ну что же, – обвёл Низовцев молодых людей многозначительным взглядом. – Давайте начнём.
На столе красовалась тарелка с фруктами и бутылка лёгкого вина. Две девушки и парень, не притрагиваясь, смотрели на бокалы. Александр поднял свой и жестами предложил ребятам не стесняться. Они отпили по глотку.
– Начать предлагаю с Татьяны, так как у неё стихи.
Таня, красивая темноволосая девушка, застенчиво опустила глаза.
– Стихи, – продолжал Александр Львович, – как вы знаете, не совсем мой профиль, и я тебе, Тань, говорил это, когда брал их. Я могу высказать своё сугубо личное мнение. Указать точно и неопровержимо как надо писать, а как не надо, я не смогу. Стихи в своё время я тоже писал, штуки четыре даже печатались, но потом как-то охладел.
– А почему? – спросила, подняв большие красивые глаза, Таня.
– Даже не знаю, – ответил Низовцев. – Отошло само собой и больше не тянет. Чтобы писать стихи надо быть очень честным. Я бы даже сказал, болезненно честным. С собственной души, да и плоти тоже, стружку снимать. Видимо у меня это не получалось. Я относился к поэзии играючи, как к эксперименту, а она этого не прощает. Ей надо отдаваться полностью, сгорать в её домнах, испепеляться. А я не желал сгорать раньше времени. А может просто боялся… Теперь о твоих стихах. Они мне понравились.
Таня непроизвольно улыбнулась.
– Самое главное, что я в них увидел – это профессионализм. Придраться практически не к чему, всё сделано очень сильно. Рифмы, ритмика, образы весьма впечатляющие – уносит и захватывает. Уносит и захватывает, без дураков! Ну а содержание… Тут вряд ли что-то путное я скажу, потому что содержание очень личное. Ты согласна?
– Да, конечно.
– А рассуждать о личном, и тем более критиковать нельзя. Тут или понравилось, или нет. Мне – понравилось.
Таня приняла комплимент с ещё одной благодарной улыбкой.
– Только, вы знаете, – сказала она, – я не совсем согласна с вашими словами о том, что поэт должен сгорать дотла в своих стихах.
– Так, так, – Александр Львович сделал глоток из своего бокала и жестом предложил то же сделать и гостям. – И какое твоё мнение?
– Мне кажется, надо разделять поэтическую и частную жизнь. Из каких бы сокровенных глубин ни исходили стихи, но это всё равно некая игра.
– Игра, – кивнул Низовцев, – игра.
– Это стилизация эмоций… Алхимия чувств… То есть, что я хочу сказать… Здесь всегда присутствует что-то искусственное. Хотя бы в плане формы и подачи.
– Да, да.
– Поэтому беззаветно класть себя на алтарь поэзии неправильно. Поэта воспринимают как самоубийцу. Вот он вступил на эту тропу, и с каждым шагом он себя убивает. У него обязательно должен быть трагический конец. Поэт, не умерший в молодости, не поэт. А я не хочу умирать! Я хочу прожить долгую и счастливую жизнь. Полную любви…
– Татьяна! – воскликнул Александр Львович. – Ты говоришь это так, будто я сейчас начну с тобой спорить, начну тебя переубеждать, стыдить даже. "Как ты можешь такое говорить! Да ты изменница поэзии!" И всё такое прочее. Но я не буду этого говорить, потому что полностью с тобой согласен. Даже больше скажу: ты затронула сейчас тему, которая всегда меня волновала. Постараюсь выразить её так: соответствие, а может и несоответствие, жизни художника его творчеству. Мы на днях разговаривали на схожую тему с моим издателем, Борисом Чивиным – знаете его, наверное. Но там всё несколько с другой точки рассматривалось. Он совсем уж радикальные взгляды высказывал, вплоть до отрицания искусства как такового.
– Очень странно от него такое слышать, – подал голос парень.
– С ним такое часто бывает, и вряд ли он сам верил в свои слова. Просто он провокатор по натуре и подбивает меня на разные нелепые суждения. Проблему, если посмотреть на неё с того угла, который задала нам Таня, можно истолковать примерно так. Вот мы видим писателя. Писатель, скажем, даёт интервью. Ведёт себя крайне экзальтированно – мимика, телодвижения, слова, всё выдаёт в нём его нечеловеческие страдания и жертвы, через которые он прошёл при написании своей книги. Вне всяких сомнений, этот человек положил себя на алтарь искусства. Причём целиком и бесповоротно – с этого алтаря его уже не сдвинешь. Но потом мы берём его книгу и начинаем читать. И видим: книга-то так себе! Нельзя сказать, что бездарная, но и выдающейся её не назовёшь. Средняя книга. Но писатель уже на алтаре, его самопожертвование уже не остановить! Он ходит по улицам с горящими глазами, бормочет себе что-то под нос. Болезнь, иначе и не скажешь, болезнь несоответствия между умениями и созданной им о себе иллюзией! И всё бы ничего, мы могли бы проводить его улыбающимися взглядами, но писатель этот от своей болезни чахнет и умирает. Или, ещё того хуже, сам накладывает на себя руки. Сгорел, одним словом. А всё ради чего? Ради какого-то фантома, призрака. Иллюзии. Да, о нём напишут как о беззаветном мученике искусства, найдутся такие, кто назовёт его гением, причём совершенно незаслуженно, но стоила ли его жизнь, такая короткая, бессобытийная и, в общем-то, пустая всей этой экзальтированной бравады? Он уже на том свете, его не вернёшь. А что интересного он видел? Да ничего – он весь вышел в иллюзорные переживания. С таким пониманием, с таким видением творческой личности я, конечно, не могу согласиться. И ты абсолютно права, Таня, что не хочешь разделять эту участь. В жизни, какой бы сложной она ни была, всё-таки немало прелестей, и ещё неизвестно, можно ли на одну чашу с ними поставить прелести творчества. Мне почему-то кажется, что победа всегда будет за жизнью.
Вино потихоньку выпивалось.
– Теперь, Игорь, твои рассказы, – взял Александр Львович со стола несколько листов.
Пауза после этих слов получилась довольно длинной и была заполнена многочисленными улыбками и даже смешками девушек. Низовцев тоже улыбнулся.
– Ну что сказать, – начал он и снова задумался. – Похвально, похвально твоё стремление описывать жизнь во всех её проявлениях, в том числе и в таких. Я сам, как вы знаете, активно вставляю в свои произведения сцены секса и делаю это не только потому, что мне это нравится и хочется. Я преследую и более далёкую перспективу. Думаю, вы согласитесь со мной, что отношение к сексу у нас в стране какое-то… не такое, согласны?
Никто не возражал.
– Если выразить это отношение одним словом – то слово это будет "стыд". Причём под стыдом я понимаю, если хотите, мистическую составляющую этого понятия. Это то, что сдерживает нас от естественных и жизнерадостных проявлений, причём не только психологически. Вот мне скоро пятьдесят, молодой ещё, в общем-то, человек, хотя уже и не юноша, и в течение всей жизни я ощущаю в голове некую занозу, некую область пустоты, которая никак не позволяет мне выйти на тот уровень отношений с женщинами – я говорю сейчас об отношениях с женщинами, хотя у Игоря много и однополой любви, – который я мог бы назвать твёрдо удовлетворительным.
– Неужели у вас, – подала голос вторая девушка, высокая и худощавая, звали её Маргаритой, – не было отношений даже на "четвёрку"?
– Представь себе, нет. И думаю, я не одинок. Постоянно, даже в самых идеальных на первый взгляд моментах присутствует нечто, что в конечном счёте выворачивает всё наизнанку. У меня было немало женщин, но со всеми в конце концов приходилось расставаться. Причины были разные, но источник всех причин, как мне представляется сейчас, один – секс. Это не значит, что я не удовлетворял своих партнёрш, хотя наверняка были и неудовлетворённые, просто несовпадения в том, как мы понимали и пропускали через себя секс, рождали какие-то зазоры. Они углублялись, становились острее и в конце концов нам приходилось расставаться. С Еленой мы уже седьмой год. Она – самая идеальная из всех женщин, каких я только видел. Именно поэтому я с ней. Но! Но тем не менее эти зазоры, которые произрастают из секса, а если шире – из сексуального воспитания или его отсутствия, они не исчезли. Я сейчас не буду о них говорить, всё это очень лично, но они, поверьте, весьма меня угнетают. Вот потому я и пишу как можно больше о сексе, чтобы мои читатели, а может и я сам, отучились бы постепенно воспринимать его как нечто из ряда вон выходящее.