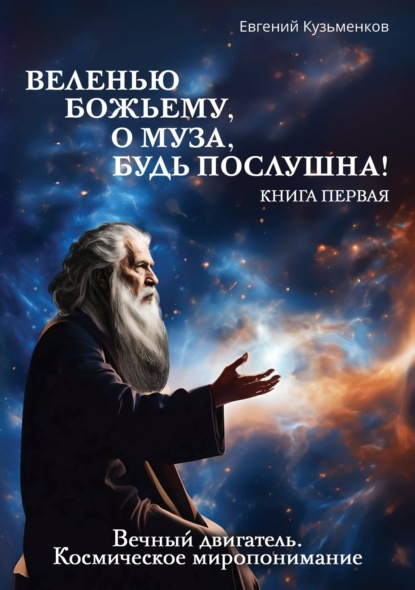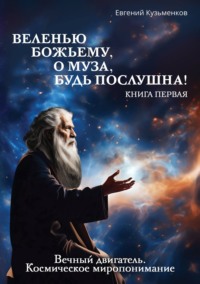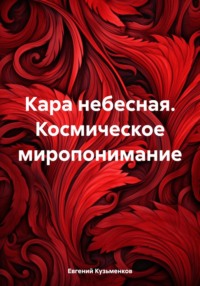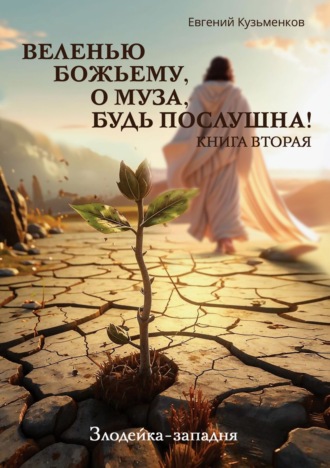
Полная версия
Веленью Божьему, о муза, будь послушна! Книга 2. Злодейка-западня
Достоевский начал посещать устраиваемые Петрашевским «пятницы» с конца января 1847 года. На них главными обсуждаемыми вопросами были свобода книгопечатания, перемена судопроизводства и освобождение крестьян. Среди петрашевцев существовало несколько самостоятельных кружков. Весной 1849 года Достоевский посещал литературно-музыкальный кружок С. Ф. Дурова, состоявший из участников «пятниц», которые разошлись с Петрашевским по политическим взглядам.
Осенью 1848 года Достоевский познакомился с называвшим себя коммунистом Н. А. Спешневым, вокруг которого вскоре сплотились семеро наиболее радикальных петрашевцев, составив особое тайное общество. Достоевский стал членом этого общества, целью которого было создание нелегальной типографии и осуществление переворота в России. В кружке С. Ф. Дурова Достоевский несколько раз читал запрещённое «Письмо Белинского Гоголю».
Вскоре после публикации «Белых ночей», ранним утром 23 апреля 1849 года, писатель вместе со многими другими петрашевцами был арестован и провёл восемь месяцев в заключении в Петропавловской крепости. Следствие по делу петрашевцев осталось в неведении о существовании семёрки Спешнева. Об этом стало известно спустя много лет из воспоминаний поэта А. Н. Майкова уже после смерти Достоевского, предоставлявшего следствию на допросах минимум компрометирующей информации.
«Члены общества Петрашевского, – говорил в своём докладе Липранди[25], – предполагали идти путём пропаганды, действующей на массы. С этой целью в собраниях происходили рассуждения о том, как возбуждать во всех классах народа негодование против правительства, как вооружать крестьян против помещиков, чиновников против начальников, как пользоваться фанатизмом раскольников, а в прочих сословиях подрывать и разрушать всякие религиозные чувства, как действовать на Кавказе, в Сибири, в Остзейских губерниях, в Финляндии, в Польше, в Малороссии, где умы предполагались находящимися уже в брожении от семян, брошенных сочинениями Тараса Григорьевича Шевченко.
Из всего этого я извлёк убеждение, что тут был не столько мелкий и отдельный заговор, сколько всеобъемлющий план общего движения, переворота и разрушения».
Хотя Достоевский отрицал предъявленные ему обвинения, суд признал его «одним из важнейших преступников» за чтение и «за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского». До 13 ноября 1849 года Военно-судная комиссия приговорила Ф. М. Достоевского к лишению всех прав состояния и «смертной казни расстрелянием».
19 ноября смертный приговор Достоевскому был отменён по заключению генерал-аудиториата[26] «ввиду несоответствия его вине осуждённого» с осуждением к восьмилетнему сроку каторги. Император Николай I при утверждении подготовленного генерал-аудиториатом приговора петрашевцам заменил восьмилетний срок каторги Достоевскому четырёхлетним с последующей военной службой рядовым.
22 декабря 1849 (3 января 1850 года) на Семёновском плацу петрашевцам был прочитан приговор о «смертной казни расстрелянием» с переломлением над головой шпаги, за чем последовала приостановка казни и помилование. При этом о помиловании и назначении наказания в виде каторжных работ было объявлено в последний момент. Один из приговорённых к казни, Николай Григорьев, сошёл с ума. Ощущения, которые Достоевский мог испытывать перед казнью, отражены в одном из монологов князя Мышкина в романе «Идиот». Вероятнее всего, политические взгляды писателя стали меняться ещё в Петропавловской крепости.
Так, петрашевцу Ф. Н. Львову запомнились слова Достоевского, сказанные перед показательной казнью на Семёновском плацу Спешневу: «Nous serons avec le Christ» («Мы будем со Христом»). Ф. М. Достоевский с тех пор был с Иисусом Христом неразлучен. В самом конце 1849 года Достоевский был сослан в Сибирь.
23 января (4 февраля) 1850 года его доставили из Тобольской пересыльной тюрьмы в Омский острог, где он провел следующие четыре года жизни. Как известно, об этом городе у Достоевского остались неприятные воспоминания; тем не менее здесь его хорошо знают и, может быть, даже немного гордятся тем, что в Омске жил великий русский писатель. Есть памятники, музей и университет, названный в честь Достоевского.
Главной виной объявили Ф. М. Достоевскому «недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского»: «Россия видит своё спасение не в мистицизме, не в аскетизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с учением церкви, а со здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их выполнение».
Отбывать наказание надлежало в Омске. По пути на каторгу в Тобольске состоялось тайное свидание Достоевского и других заключённых с жёнами декабристов, которые благословили всех в новый путь и каждому подарили Евангелие. Оно сопровождало писателя всюду, сыграло решающую роль в духовном перевороте, который произошёл с ним на каторге.
Как сложилась омская жизнь Фёдора Михайловича? Где он жил, чем занимался, по каким улицам ходил и с какими людьми встречался?
«Омск – гадкий городишка. Деревьев почти нет. Летом зной и ветер с песком, зимой буран. Природы я не видел. Городишка грязный, военный и развратный в высшей степени», – это цитата из письма Достоевского брату Михаилу, отправленного вскоре после выхода с каторги.
Понятно, что у писателя были личные причины не любить Омск, но город в те времена и правда не казался вершиной благоустройства, особенно человеку, привыкшему к петербургской обстановке. Центром жизни Омска была земляная крепость с каменным Воскресенским собором, офицерскими домами и казармами, её окружали одноэтажные деревянные дома, в которых жили штатские.
Достоевского привезли в Омск на санях вместе с товарищем по несчастью, поэтом Сергеем Фёдоровичем Дуровым. Приехал он с северо-запада по Тюкалинскому тракту, переходившему в городской черте в улицу Тобольскую (ныне Орджоникидзе). В центре города эта улица упиралась в большую площадь, и слева можно было увидеть городскую рощу (на месте нынешней Соборной площади), а справа – крепость. Арестантов везли через Тарские ворота и направляли в острог.
Теперь для Достоевского началась новая, каторжная жизнь. Ему выбрили переднюю половину головы (бессрочным каторжникам выбривали левую сторону), выдали «лоскутные платья» – арестантскую одежду со специальными метками (зимой чёрная, летом белая), надели ножные кандалы.
Это был так называемый «мелкозвон», оковы весом в четыре-пять килограммов, которые снимались только при освобождении.
«Форменные острожные кандалы, приспособленные к работе, – пишет сам Достоевский в «Записках из Мёртвого дома», – состояли не из колец, а из четырёх железных прутьев почти в палец толщиною, соединённых между собою тремя кольцами. Их должно было надевать под панталоны. К серединному кольцу привязывался ремень, который в свою очередь прикреплялся к поясному ремню, надевавшемуся прямо на рубашку».
Жили каторжники в здании острога с большим двором (шагов 200 на 150), обнесённым высоким тыном. Содержать их требовалось «в наилучшей чистоте», но это требование не выполнялось.
«Вообрази себе старое, ветхое деревянное здание, которое давно уже положено сломать и которое уже не может служить, – писал Достоевский брату. – Летом духота нестерпимая, зимою холод невыносимый. Все полы прогнили. Пол грязен на вершок, можно скользить и падать. Маленькие окна заиндевели, так что в целый день почти нельзя читать. На стёклах на вершок льду. С потолков капель – всё сквозное.
Нас как сельдей в бочонке. Затопят шестью поленами печку, тепла нет (в комнате лёд едва оттаивал), а угар нестерпимый – и вот вся зима. Тут же в казарме арестанты моют бельё и всю маленькую казарму заплёскивают водою. Поворотиться негде. Выйти за нуждой уже нельзя с сумерек до рассвета, ибо казармы запираются и ставится в сенях ушат, и потому духота нестерпимая. Все каторжные воняют как свиньи и говорят, что нельзя не делать свинства, дескать, “живой человек”».
Спали каторжники на голых нарах, укрываться им приходилось короткими полушубками, так что ноги оставались голыми, в том числе в зимние холода. Приходилось терпеть блох, вшей и тараканов. Кормили арестантов хлебом и щами, в которых только изредка попадался кусочек говядины.
В праздники подавали кашу (почти без масла), а в пост каторжники довольствовались капустой и водой. Выживать удавалось только благодаря случайным заработкам, подаянию от местных жителей и деньгам, которые иногда присылала родня. В случае Достоевского это была помощь брата Михаила.
Почти каждый день в любую погоду арестантов выводили на работу. По нынешней улице Спартаковской они шли к Тобольским воротам и через них выходили к Иртышу, где обжигали и дробили алебастр, разбирали старые лодки, изготавливали кирпичи. Алебастровый сарай стоял у самого берега. По-видимому, в «Преступлении и наказании» был описан именно тот пейзаж, который открывался перед Достоевским в Омске:
«Раскольников вышел из сарая на самый берег, сел на складенные у сарая брёвна и стал глядеть на широкую и пустынную реку. С высокого берега открывалась широкая окрестность. С дальнего другого берега чуть слышно доносилась песня. Там, в облитой солнцем необозримой степи, чуть приметными точками чернелись кочевые юрты. Там была свобода и жили другие люди, совсем не похожие на здешних. Там как бы самое время остановилось, точно не прошли ещё века Авраама и стад его».
Каторжники очищали городские улицы от снега, делали ремонт в домах (например, Достоевский участвовал в штукатурных работах в здании военного суда – сейчас это корпус медицинской академии на Спартаковской, 9)[27]. Тогда-то им и удавалось заработать немного денег, чтобы купить еды. Отдохнуть получалось только в дни больших церковных праздников и великих постов, когда жителей острога вели в Воскресенскую военную церковь для исповеди и молитвы. «Нас водили под конвоем с заряженными ружьями в божий дом, – вспоминал Достоевский. – Конвой, впрочем, не входил в церковь. В церкви мы становились тесной кучей у самых дверей, на самом последнем месте, так что слышно было только разве голосистого дьякона, да изредка из-за толпы приметишь чёрную ризу да лысину священника».
Достоевский очень тяжело переносил арестантский быт. Другие каторжники, в основной массе уголовники из низшего сословия, не могли признать его за своего. Они понятия не имели, в чём его преступление, и даже не думали сочувствовать. «Ненависть к дворянам превосходит у них все пределы, – писал позже Достоевский, – и потому нас, дворян, встретили они враждебно и со злобною радостью о нашем горе». Судя по следующей фразе: «Они бы нас съели, если б им дали», администрация острога защищала «интеллигентных» узников от остальных. Стопроцентной гарантии, по понятным причинам, быть не могло.
«Посуди, велика ли была защита, – обращается Достоевский к брату, – когда приходилось жить, пить-есть и спать с этими людьми несколько лет и когда даже некогда жаловаться за бесчисленностью всевозможных оскорблений. «Вы, дворяне, железные носы, нас заклевали. Прежде господином был, народ мучил, а теперь наш брат стал», – вот тема, которая разыгрывалась четыре года. 150 врагов не могли устать в преследовании, это было им любо, развлечение, занятие…»
Плохие условия жизни отразились на здоровье писателя. Именно в Омске у него начались припадки «падучей» (эпилепсии), проблемы с желудком. К физической работе Достоевский не привык и с огромным трудом выполнял ежедневный «урок» (норму). Он часто лежал в госпитале, но этому скорее был рад: болезнь обеспечивала ему отдых и смену обстановки. Кстати, здание госпиталя сохранилось: скорее всего, оно было деревянным и находилось на нынешней улице Гусарова, дом 4. В XIX веке это была улица Скорбященская.
Знаменитая цитата про «гадкий городишко» имеет продолжение. «Если б не нашёл здесь людей, я погиб бы совершенно», – пишет Достоевский, добавляя: «Брат, на свете очень много благородных людей».
Первым[28] в списке стоит назвать коменданта Омской крепости Алексея Фёдоровича Граве. Достоевский в письме брату и в «Записках из Мёртвого дома» называет его «человеком очень порядочным». Уточнений в тексте нет, и понятно почему: по уставу, комендант должен был относиться ко всем каторжникам с одинаковой строгостью, но для писателя он, по-видимому, шёл на разные неофициальные послабления. Сообщать об этом даже в личных письмах было рискованно из-за перлюстрации, к тому же в Омске, по словам Достоевского, хватало доносчиков. Однако известно, что в 1852 году Граве[29] направил в столицу запрос, чтобы выяснить, нет ли возможности причислить Достоевского и Дурова к «военно-срочному разряду арестантов». В случае положительного ответа срок каторги сократился бы на шесть месяцев; плюс к этому Граве спросил начальство, нельзя ли освободить обоих петрашевцев от ножных оков. Положительного ответа он так и не получил.
В 1859 году, отбыв всё наказание и возвращаясь из Семипалатинска в европейскую часть России, Достоевский проезжал через Омск. Остановился он как раз в доме Граве, и литературоведы считают это стопроцентным доказательством того, что между комендантом и каторжником установились в своё время добрые отношения. Именно в доме Граве был открыт в 1983 году литературный музей имени Достоевского.
Важную роль в судьбе Достоевского сыграла Мария Дмитриевна Францева – дочь тобольского прокурора. Она встретилась с писателем, когда тот ехал на каторгу, и передала с сопровождавшим его жандармом письмо своему хорошему знакомому в Омске – подполковнику Ивану Викентьевичу Ждан-Пушкину, инспектору классов Сибирского кадетского корпуса. В этом письме содержалась просьба по возможности оказывать помощь Достоевскому и Дурову.
Ждан-Пушкин (по словам Достоевского, «человек образованнейший, с благороднейшими понятиями о воспитании») к этой просьбе прислушался. Он «адресовался к разным лицам с расспросами о возможности, о способах облегчить участь Дурова и Достоевского». Одним из этих «лиц» был старший доктор военного госпиталя Иван Иванович Троицкий.
Когда Фёдор Михайлович оказался в лазарете, Троицкий «толковал с ним, предлагал ему лучшую пищу, иногда и вино»; тот отказался, но попросил, чтобы его клали на лечение чаще и подбирали ему комнату посуше (выше шла речь о грязи и сырости в остроге).
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Ермаков А. В., «XIX век в России: расцвет на пути к катастрофе» – Православие.ру, 16.07.2007, https://pravoslavie.ru/5704.html.
2
Стихотворение «Безумцы», Беранже, Пьер Жан (1780–1857), пер. Курочкин В. С., из сборника «Новые и последние песни». – М.: Художественная литература, 1966.
3
Цит. по: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Коммунизм.
4
Ермаков А., «XIX век в России: Расцвет на пути к катастрофе». – 2007, цит. по: https://pravoslavie.ru/5704.html.
5
Строки из произведения Достоевского Ф. М. «Бесы»: «Воплощённой укоризною ты стоял перед отчизною, либерал-идеалист».
6
Николай Японский (в миру Касаткин, Иван) (1836, Смоленская губерния – 1912, Токио, Япония) – епископ Русской церкви, архиепископ Токийский и Японский (с 1906 года). Миссионер, основатель Православной церкви в Японии.
7
Архив Северо-Западной Библейской Комиссии. Дневники святого Николая Японского. Том 30, запись 187. 1904 год. Цит. по: Логачева Л. Н., «Япония и Россия в дневниках святого Николая Японского», https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/pravoslavie-na-dalnem-vostoke-pamjati-svjatitelja-nikolaja-apostola-japonii/5.
8
Архив Северо-Западной Библейской Комиссии. Дневники святого Николая Японского. Том 31, запись 140. 1905 год. Цит. по: Логачева Л. Н., «Япония и Россия в дневниках святого Николая Японского», https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/pravoslavie-na-dalnem-vostoke-pamjati-svjatitelja-nikolaja-apostola-japonii/5.
9
Цит. по: Орлов А. С., Георгиев В. А. и другие. «История России. Учебник». – М.: «Проспект», 1997.
10
Цит. по: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тщеславие.
11
Йегуда Лейб Алеви Ашлаг (Бааль-Сулам – «Владелец Лестницы» – по названию своего комментария «Сулам» («Лестница») на книгу Зоар, 1886–1954) – каббалист, автор ряда книг и статей, которые используются в качестве учебных пособий по учению каббалы.
12
Цит. по: https://www.inpearls.ru/author/36472.
13
Мережковский, Дмитрий Сергеевич (1866–1941) – русский прозаик, поэт, религиозный мыслитель и литературный критик.
14
Цит. по: Сочинения / Значение Имен в романе Преступление и наказание Достоевского. 2023, http://litcult.ru/content.sochmenie/2140?ysdid=m0mj669gnm869067493.
15
Фридлендер, Георгий Михайлович (1915–1995) – советский и российский литературовед, специалист по русской литературе XIX века (в частности, по творчеству Достоевского Ф. М.), теоретическим проблемам литературы, эстетики и поэтики.
16
Цит. по: https://ru.wikipedia.org/wiki/Достоевские.
17
Цит. по: https://ru.wikipedia.org/wiki/Достоевский,_Фёдор_Михайлович.
18
Радклиф, Анна (1764–1823) – английская писательница, одна из основательниц готического романа.
19
Куманины – одна из старейших московских купеческих семей. Состояли в отдаленном родстве с Достоевскими.
20
«Припадки» случались у Фёдора Михайловича с юности, но диагностировали ему эпилепсию («падучую») много позже, в Сибири. Сам он писал об этой болезни: «…я эпилептик. Средним числом у меня припадок раз в месяц и уже много лет, с Сибири, с тою разницею, что в последние два года мне надо, чтоб войти после припадка в нормальное состояние, – пять дней, а не три, как было все чуть не двадцать лет…» (Достоевский Ф. М. – Погодину М. П., 26 февраля 1873, Петербург). Цит. по: www.literaturus.ru.
21
Чахотки.
22
Майков, Валериан Николаевич (1823–1847) – русский литературный критик и публицист. Сын живописца Майкова, Николая Аполлоновича, брат Аполлона, Леонида и Владимира Майковых.
23
Майков, Николай Аполлонович (1794–1873) – русский живописец, представитель романтического академизма, портретист и мастер исторической картины.
24
Иван Александрович Гончаров (1812–1891) – русский писатель и литературный критик. Член-корреспондент Петербургской академии наук по разряду русского языка и словесности (1860).
25
Липранди, Иван Петрович – российский военный и государственный деятель, военный историк. Генерал-майор Русской императорской армии. Деятель тайной полиции.
26
Генерал-аудиториат – высшее судебно-уголовное место военного ведомства с 1797 по 1867.
27
Цит. по: Эйхвальд, Николай, «Омск – гадкий городишко, или Как в нашем городе жил Фёдор Достоевский», Омск. онлайн (NGS55); https://ngs55.ru/text/culture/2020/02/04/66468793.
28
Здесь и далее, цит. по: Николай Эйхвальд, «Омск – гадкий городишко, или Как в нашем городе жил Фёдор Достоевский», Омск. онлайн (NGS55); https://ngs55.ru/text/culture/2020/02/04/66468793.
29
де Граве, Алексей Фёдорович (1793–1864) – русский военный, участник Отечественной войны 1812 года, последний комендант Омской крепости, генерал-майор (1856). С 1850 года де Граве, будучи Омским комендантом, помогал Достоевскому во время отбывания им наказания.