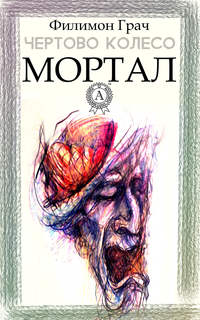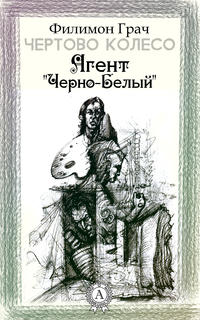Полная версия
Рукопись

Филимон Грач
Рукопись
Глава 1
Коммуна Беньё-ле-Жюиф
… «Писать нужно так, чтобы ваша книга была похожа на озвученное кино и с запахами»…
Писатель притянул к себе рукопись, долго смотрел на неё, не решаясь открыть… «Когда глаза становятся ртом, проглатывающим слова, ваш разум, желудок, собравшийся всё это переварить…»
Прелюдий было много… Что было последней прелюдией? Бьянка- его самая мощная увертюра!
Писатель лукавил… Уцепившись за кончик мысли, он дал ей большой поводок и та немедля отползла в сторону, глядя на него глазами попавшейся жертвы… Писатель улыбнулся… Он улыбнулся и кончиками пальцев погладил титульный лист рукописи, как гладят хитрую кошечку, присмиревшую ненамного после миски густой сметаны…
Бьянка да, у неё вступление робкое, флейтами, крадущимися вдоль тропинки, поросшей взрослым камышом… Тихим ветерком потом фагот пройдётся по их коричневым головкам, они качнутся в такт, потом ещё… Музыка страсти усиливается… Вот пошли струнные…, сначала первая скрипка, за ней вторая…. Альт! Альт! Здесь несомненно нужен альт! А откуда ж здесь валторнам быть? Ах, да! … И меди чистый голос и густой…
А скрипки… дерзкой стайкой валькирий они набрасываются на фагот, тот отбивается, но тоже робко сперва, не давя на общий хор, а только споря слегка… Да! Пусть набежит ветерок сначала! Пусть он забьётся ей под юбку вместе с опавшими листьями с тропинки и тогда она, смеясь, танцуя на ходу, ручками подыгрывая фуэтэ, будет подминать её под себя понарошку, и вдруг побежит, побежит, хитро оглядываясь назад, а тот, кто следил за ней всё время, пока она прогуливалась по волшебному лесу, остановится вдруг, бессильно разведя руками… Всё!
Вот она, «Бьянка»… Она лежит перед ним, её веки полуприкрыты, головка немножко вбок, небольшая ложбинка в её подушке едва касается своею атласной кожей её румяной щеки… Но настоящей Бьянки больше нет, она ушла, как исчезает всё, что было где-то, когда-то, как ветер в кронах деревьев дул и вдруг затих… Рукопись свою он тоже решил назвать в её честь, в честь Бьянки….
Вечер. Редкие огни за окном успокаивают Писателя и шум ветра за окном тоже успокаивает его… Мир рухнул. Теперь их осталось только двое – он и Читатель. Писатель обманывает его! Но он не только не делает ничего, чтобы спасти Читателя, а наоборот, придумывает всё новые и новые сюжеты, всё более изысканные капканы расставляет тут и там…
Рукопись лежит, не шелохнувшись… Боясь пробудить в ней ненужную страсть, Писатель одёргивает руку, будто ожегшись, но пальцем задев листок, не рад…, листок вскидывается вверх … Писателю страшно брать её такой беззащитной, не научившейся ещё говорить «нет», не отличающую ещё слово «да» от власти позорных капитуляций…
Встав, Писатель долго ходит по комнате, опустив глаза, смотрит в пол… Дубовый паркет с облезлым лаком на поверхности отправляет его опять назад, где ничуть не изменившееся время, глазами ныне умерших людей тогда созерцалось совсем иначе, для них оно было настоящим! А, будущее… что, ж! Будущее вновь сместилось за край мечтаний, там очертания неясны, там свет и тень, там ночь и день, как воска спущенная нить, не оборвать, ни остудить…
…Вечер….
Вечер – это тоже прелюдия к утру, но повторяющаяся без конца… Писатель обманывает себя тем, что следующее утро будет другим, и что ветер будет другим непременно и солнце… Если будет оно вообще… И вдруг, он говорит себе; – «стоп», отводит руку в сторону, свет, отразившийся от неё, превратился в тень на стене и только рукопись на столе была бела, как ломоть Луны, повисшей над кроной большого чёрного дерева справа в окне…
«Бьянка» только с виду казалась доступной, как недоступна бывает Спящая Царевна во хрустальном гробе! … «Так же, как»… Почти не выходя из забытья, Писатель опять идёт к столу, его плечи, опущенные вниз и голова, скорей всего говорят о том, что он пленён неведомой силой… Ещё одна попытка. Сейчас многое будет зависеть от того, с каким настроем он подойдёт к «Бьянке»!
– Бьянка, ты слышишь меня, Бьянка?
Свет от его настольной лампы на столе, когда он пододвинул её поближе к рукописи, словно преткнулся в том месте, где срез её страниц был перепендикулярен столу… Осень за окном? Надо срочно посмотреть в окно, ибо если этого не делать, то страх тогда окажется сильнее… Длинная, далеко отросшая от дерева ветвь, сучковатая, закрученная хитро древесными сухожилиями, мерно постукивала в окно, отвлекая его от главных мыслей…
Писатель давно хотел отпилить её, но боялся… Чем больше тебе лет, тем сентиментальней гул в твоей пустеющей груди, и тем глуше стук влажного красного камня, ударяющегося об неё своими дряхлеющими аортами… Жалея, что не задёрнул штор, Писатель тупит взор, но дерево разбуженно гудит за окном, будто пальцем веткой стучит в стекло, просится в дом.
«У неё большая семья…, у неё большая семья»… – зачем он то и дело повторяет эту фразу? Писатель с опаской опять покосился в окно, за ним накидка из фиолетового креп-шифона с красноватой отбивкой в самом низу, тихо наезжала с погрузневшего небосклона на мрачноватый лесок вдали…. «Зачем он купил этот дом? Слишком большой, холодный…» С Бьянкой они прожили здесь одну зиму, одну весну, лето и две осени… Этот год вместил в себя цифру «пять» и ещё несколько десятков дат поменьше…
Рукопись пугала своей неподвижностью, в ней было что-то от покойницы… Невероятные комбинации чувств, как сложное сочетание цветов, наслаивались одно на другое, ввергая Писателя в такой глубины водоворот, что он был вынужден опять вставать, ходить по комнате, посматривая с опаской на потемневшее окно…
… «Писать нужно так, чтобы ваша книга была похожа на озвученное кино и с запахами»… Эта фраза, она была первой что он прочёл, открыв рукопись… Сердце у него стучало, будто было ему сейчас не пятьдесят шесть, а восемнадцать! Мир держится на контрактах, на условностях самоподчинения, лучше добровольно признать себя рабом, чем будучи им, делать вид, что это не так…
Бьянка… Бьянке было двадцать пять, когда она ушла… Она ушла, а он остался… Это она убедила его остаться. Она сказала, что он «талант». Но Писателю дай только волю, так он все жизни выстроит через запятую… свою и чужие… Но так нельзя. Всё когда-нибудь, да заканчивается. Тогда зачем ему Бьянка? Бьянка сказала, что он «талант»? И что?
О, сколько раз на дню Писатель подходит к этому столу, примеривается… а она как лежала, так и лежит, не шелохнувшись?
– Прошу тебя! Прошу… – Он склоняется над листом, как будто в нём, как в зеркале, сейчас отразились её красивые черты… Бьянка….
Говорят, должно пройти три дня, а потом начнётся… Начнётся «что»? Плоть начнёт разлагаться, а потом? «Пора прощаться»…. Он всё-таки снял этот лист, снял… Поднимаешь лист, как на лице её вуаль, под ним невидимая даль… Писатель не может попасться на собственный трюк, он его готовил для других, не для себя…
Утро. Утро для тех, кто, отпустив сон, не спешат окунаться с головой в замасленный календарь. Сколько дат, сколько дней, сколько мыслей пустых и идей… Не подходя к столу, Писатель косится на него из спальни через полуоткрытую дверь… Царевна спит, царевна видит всё и слышит… Сложив ладони лодочкой, словно в руках у него тропарь, а не горсть предполагаемой воды, Писатель, улыбнувшись, выплёскивает её в зал, брызги падают на письменный стол, на рукопись, и Бьянка приветственно машет ему рукой, ещё один листок из стопки бесшумно соскальзывает вниз, ложится рядом…, оказывается, он с вечера оставил открытой фрамугу на окне? Да, это был просто ветер…
Странно, что сегодня осень, а не весна и не лето… Непопадание в ритм отзывается пустотой… Так человек под шестьдесят уклончиво реагирует на предложение его семьи отпраздновать свой юбилей в близком кругу друзей… Видеть их, несчастных, или состоявшихся у себя дома? Всех разом?! Одним махом расписаться в своей несостоятельности? Нет, и ещё раз нет!
Несостоятельность, как первые признаки старческой деменции, страшат Писателя… Пройдя-таки в ванную комнату, Писатель склоняется над раковиной, опершись обеими руками об её глазированный фарфоровый край и открыв воду тонкой струйкой из крана, долго смотрит в маленький водоворотик, что десятками шумных пузырьков беснуется возле слива – СЛИВ! Так и не умывшись, он берёт полотенце и трёт им лицо… Производя движения вверх-низ, потом круговые, короткие, с поочерёдным наездом на правую и левую щёки….
Себя не обманешь…, на улице осень, а тебе пятьдесят шесть… «Кстати… вчера опять звонил, этот…. он всегда забывает имена… его сосед по участку… Дэвид Рэтчелл, кажется? Надо, же! Запомнил! А ведь, не хотел! После Бьянки чужие имена буквально вываливаются у него из головы и если раньше он сетовал на это своё хроническое недомогание, то сейчас напротив, радуется ему, как ребёнок.
Но, кажется, вчера он дал согласие устроить вместе с ним барбекю у себя в саду перед домом? Чета Рэтчеллов милые люди, почему бы и нет? С полуулыбкой посмотрев на буфет, заполненный рядами элитного алкоголя, Писатель опять задумался … «У Бьянки было великолепное чутьё! Но почему врач не слышит собственной болезни, а великий учёный не в состоянии дать определения тому, что есть «не вечность»? Поставив турку на газ, Писатель идёт одеваться.
Его мягкая атласная пижама в бело-синюю полоску скользит по группам мышц, с неё остатки недавнего забытья Писатель рукою стряхивает вниз, ряд маленьких перламутровых пуговок на пиджачке он быстро обегает пальцами, те легко выскакивают из прорамок, левый рукав, правый, затем штаны – и вся пижама летит на пол, где старый дубовый паркет с облупившимся лаком на поверхности опять отправляет его в прошлое, не давая ему ни единого шанса зацепиться за новый день.
Тяжело вздохнув, по привычке Писатель опять бросает свой взгляд на рукопись, стопка листов на столе лежит нетронутой. Только оба листка, но не съехавшие вниз, а будто отложенные в сторону специально, сейчас намекали Писателю на новый тип общения, где открытая форточка, ворвавшийся с улицы ветерок и это прохладное утро вновь наступившего дня с листьями, кружащими за стеклом, отныне будут гарантом его стремительной прогрессии в делах.
Телефон зазвонил снова, едва он успел переодеться и выпить чашечку кофе… Сигара лежала рядом, тоже как напоминание о том, что здоровье в нашей жизни это далеко не главное. Писатель часто баловал себя сигарой. Особенно в последнее время…. А вечером к ней он позволял себе немного «Хереса» или коньяку…
Подняв трубку, улыбаясь, Писатель слушает сбивчивую английскую речь…, эти звуковые символы, обычные сигналы к действию или…? Дэвид и Маргарет Ретчелл уже давно проснулись и теперь хотят, чтобы он, их новый сосед в этом элитном районе, немедленно бы устраивал мангал у себя во дворе, нёс мясо, замоченное с вечера в винегаре, растапливал угли, а они, его добрые, его милые и беспардонные англичане, зажав у себя под мышкой джин и расточая сладкие междометия в его адрес, лавировали бы по его узким мощёным дорожкам в саду, приговаривая, – It’s fantastic, David! Yes, it’s fantastic, Maggy!.. Он сам виноват, что приучил их к традиционному русскому хлебосольству…
Но рукопись трогать нельзя, он даже не накрывает её ничем, когда у него дома собираются гости. Слава богу, его немногочисленные друзья – люди в массе своей воспитанные, все до единого, включая супругов Рэтчелл, являются его преданными читателями и поклонниками.
С годами научаешься жить, не предавая… Можно, скажем, уехать во Францию, не покидая собственной страны, потому что всё дело в Бьянке. Неспроста, лучшим творениям рук человеческих мужчины часто присваивали женские имена! Были и исключения, конечно, но, разве, может что сравнится с Бьянкой?
… Прошла ещё одна неделя сентября…
– Бьянка, ты отпустишь меня? Мне нужно срочно куда-нибудь поехать…. Куда поехать? Знаешь… я по-прежнему тебя люблю! Знаю, знаю… Тебе не нравилось никогда, когда я начинал заводить эту старую пластинку! Теперь я могу признаться тебе, что и мне тоже не нравилось никогда использовать «это» слово… Наверное, я поеду в Сэн-Луи, там прекрасные лебяжьи пруды и чудные кленовые аллеи!
Прихватив с собою трость, держа её двумя руками у себя на пояснице, я буду корчить из себя буржуа, бродя по тропинкам, засыпанным листвой и пиная их без конца носком своей лаковой туфли… Почему я хочу обуть свои смешные лаковые туфли? Просто… Просто я не молод уже, а там, я надеюсь, мне не встретится заносчивый сноб, кто возьмётся критиковать меня за столь дикую выходку… Мне нужно уехать, Бьянка! Дня на два, хотя бы!
Что? Нет, я тоже возьму тебя с собой! И ты как прежде, едва касаясь меня своим плечом и смешно поглядывая на меня каждый раз, боясь не поспеть со мною в ногу, будешь рассказывать мне о том, какую чудную ночь ты пережила накануне и какое замечательное утро встретило тебя, когда ты, чуть открыв глаза, долго щурилась от солнца, лёжа в постели и пытаясь своею ручкой отыскать на мне то, что ночью выдавало себя с головой!
Ах, Бьянка! Двести тридцать пять страниц машинописного текста, это, увы, не то, что так ценят мои брятья-графоманы! Да, да! Увы! Хотя, ты знаешь… мне всё равно! Нет, правда! Мне абсолютно наплевать, что обо мне подумают в парижском издательстве! Месье Кришон смешон! Он возомнил себя чёрт знает кем! Помню, помню… ты советовала мне не спешить… Я и не спешу! Видишь, я собираюсь поехать в Сэн-Луи!»…
Бесцельно побродив по комнатам, неспешно обойдя их одну за другой, Писатель опять преткнулся взглядом о свой письменный стол, безупречный порядок в доме в последнне время стал его слишком раздражать.
Тогда он прошёл в дальний угол комнаты, сел в своё любимое кресло между столиком в стиле барокко и тяжёлым напольным канделябром о шести свечах, зажёг одну из них, ту, что давала всегда наиболее приглушённый свет и не мешала ему из своего укрытия наблюдать за обстановкой в доме и устало закрыл глаза.
Глава 2
Иезуиты
Чтобы хоть как-то занять себя на этом скучнейшем в моей жизни мероприятии, я опять долил себе вина в бокал и стал искать к кому бы придраться со светским, на их манер, разговорчиком… «Так месье Сираншон говорит, что его сыр самый лучший в округе? Может быть, может быть… Чем не тема для безобидной пикировки словами!»… Обойдя несколько высоких столиков на ажурных ножках, окружённых пьющими, жующими и курящими людьми, я сразу обратил внимание на одного своего старого знакомого, немолодого уже француза Вивьена Трюльи, тот всегда, как только выпивал немножечко сверх меры, так сразу начинал кичиться своей, якобы, принадлежностью к роду великого Иоахима Мюрата, известного наполеоновского маршала! Вот его-то я и намеревался погрызть немного за столь фривольную самоидентификацию…
– Послушайте, старина Вивьен! – Незаметно подойдя к его столику, благо, что кроме него самого, за ним больше не было никого из гостей… – я повернулся лицом к пожилому французу, тот, всецело погружённый в своё занятие, вытаскиванием застрявшего моллюска из раковины, сначала отреагировал на моё обращение крайне рассеянно, вскоре спохватившись, вдруг воскликнул, – А! Это вы, мистер русский!
… «Ничего себе, «мистер русский»! Я, конечно, в душе оскорбился на его эскападу, но вида не подал… Сам виноват, что послушав своих соседей по сектору, английскую чету Рэтчелл, припёрся на их чрезвычайно «отпевательный» фуршет»…
Рэтчелл старший, таскавшийся со мной повсюду, мгновенно прийдя мне на выручку, начал было;
– Э-э… месье Вивьен! Вот месье Базиль Сираншон утверждает….
– Да, он утверждает, месье Вивьен! – продолжил я, перехватывая эстафету от Дэвида Рэтчелла, – что его сыр Аббеи – де-Сито самый лучший в нашей коммуне … это так? …Как вы думаете?
Фразу «как вы думаете» я специально приклеил с конца со значительным отставанием по времени, чтобы этот пожилой балбес не мнил себя уж слишком большим умником по части исторических инъекций…
* * *… Да, в общем, дело не в этом… Как я пережил вчерашний фуршет, не помню… Дэвид, старый суссекский пьяница, с самого начала увязавшийся за мной, был несносен, после окончания вечеринки мне пришлось выслушивать его высокопробную ахинению про американскую ПРО, про их почти пиратский подводный английский флот с «Чёрным Роджерсом» на флагштоке, и «про прочее», говоря тавтологически…
Кажется, он сам уже не верит в разрекламированное могущество США и Англии… «А ты почему во Францию поехал?» – Однажды спросил его я и, пожалуй, впервые старина Дэвид не лукавил, не пытался из кожи лезть вон, с пеной у рта отстаивая передо мной свою англо-саксонскую исключительность, а ответил просто, как подобает нормальному мужику: – «Марго настояла!» Про Марго я уточнять не стал, ситуации жизненные разными бывают, а тут, что называется, классическое «шерше ля фам», но с английским подтекстом!
… Проснулся я, как обычно, в полном одиночестве… За эту прошедшую ночь ветер на улице стал крепче, а мой любимый вековой дуб, беспрестанно стучащий веткой в окно, с заметно поредевшей шевелюрой… Кажется, он стал ещё более сердит и скрипуч, будто это я был повинен в том, что на смену лету обычно приходят осени, а не вёсны… Младший из сыновей Рэтчеллов, Фил, пятнадцати лет мальчишка, долговязый, с худым веснушчатым лицом, уже вовсю гонял мяч у себя на площадке…
Мяч часто залетал на мою территорию и тогда он, с опаской косясь на мои окна, быстро перемахивал через невысокий забор, хватал мяч с земли и тутже бежал обратно… Эта история повторялась несколько раз кряду. В отличие от местных, я снобом не был никогда, а потому всякий раз старался укрыться за оконной рамой либо за шторой, когда мне вдруг казалось, что Фил конкретно смотрит на меня, когда опять хочет тайком перелезть через забор на мою территорию за мячом…
… «Бьянка» с Филом сговорились, наверное, если в одно мгновение я оказался там, где сейчас дует холодный ветер, а вид обветшавших строений и могильные холмы без указания имён и дат, наводят ужас на моё осиротевшее сознание… Ведь это и есть моё одинокое детство? Я оглядываюсь кругом – никого… Только какой-то лысый дядька, моих лет примерно, согнувшись над грядкой, копается у себя в огороде…
В нём я не сразу признал моего ровесника Кольку Майорова… С него свой взгляд переведя в сторону, я сразу увидел тот же самый полуповаленный плетень, клонившийся как и много лет назад, к узкой грунтовой дороге, что так и не удосужилась права быть покрытой хотя бы жиденьким асфальтовым покрытием… Теперь же я был вынужден шмыргать ещё и носом, поскольку не только вид зловонных ручейков с зелёной поросячьей мочой, неукротимо пробивавшихся на простор из-под чьих-то сараек, наводил на меня уныние, но и этот резкий, почти удушающий запах бил в нос… Здесь ничего не изменилось за пятьдесят лет… Н-и-че-го!
В смысле декораций, в этом заколдованном месте под названием «детство» всё осталось почти тем же самым, только не было здесь больше нас, маленьких девочек и мальчиков! Не было песочниц с «городками», не было двухцветных резиновых мячиков, проколотых об гвоздь, торчащий из штакетины на заборе, не было старых скамеек у подъезда с шелухою от семечек, в большом количестве набросанных у ног наших самых главных дворовых сплетниц, не было там наших дорогих дедушек с бабушками, не было наших пап или отчимов, пьяной походкой крадущихся к себе домой после очередной получки….
А сам я? Сколько стёкол перебил я у себя во дворе, сколько свежепостиранного белья этим мячиком испачкал, что обычно развешивали жильцы нашего дома прямо во дворе на бельевых верёвках, подпёртых для устойчивости большими самодельными рогатинами из орешника? И как какая – нибудь скандальная тётя Шура с первого этажа потом всё это выговаривала моей строгой матери… Или как вечно пьяный в усмерть Солодилов дядя Саша из соседнего подъезда мне до хруста в хрящах откручивал моё ухо за какую либо провинность и оно потом становилось толстым, как вареник!
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.