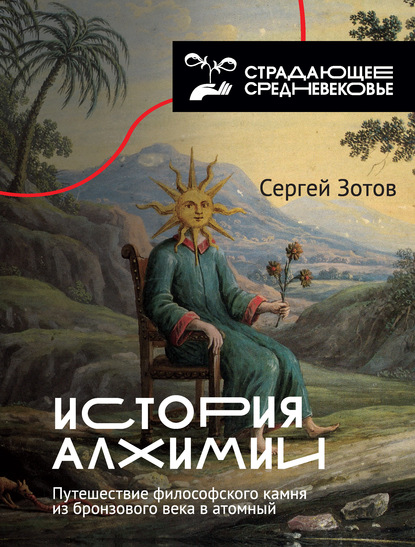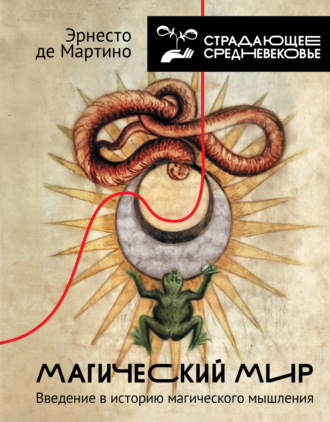
Полная версия
Магический мир. Введение в историю магического мышления
Исходя из подобных предпосылок, можно посмотреть на проблему еще шире. Бытие конституируется как движение, трансцендирующее фактическую ситуацию и преобразующее ее в культурную ценность. Основанием этого движения выступает примордиальный этос трансцендирования; заброшенность – на этой категории лучше всего видно различие между двумя этими мыслителями – для Де Мартино представляет собой темную сторону бытия, подчиняющую себе трансцендирующий этос. Диалектическая связь между двумя полюсами проясняется в следующем фрагменте:
Заброшенность, Geworfenheit, бытие-заброшенным-в-мире – это опасность, угрожающая бытию-в-мире: однако бытие-в-мире, присутствие, всегда проецирует мир перед собой посредством действия, ориентированного на всеобщее, на размыкание навстречу ценностям. Бытие-заброшенным-в-мире означает, что присутствие уже утеряно, и, утрачивая себя, оно утрачивает мир. Geworfenheit – это радикальное зло, которое ставит под угрозу и одновременно спасает этос присутствия[36].
Читатель сможет оценить во всей полноте взаимное влияние Де Мартино и Хайдеггера, ознакомившись с важными материалами, посвященными анализу философской мысли фрайбургского философа, которые можно найти в уже упоминавшихся философских сочинениях итальянского автора, настоящем кладезе идей, критических наблюдений и рабочих гипотез[37]. Здесь мы ограничимся тем, что приведем только один фрагмент, выделяющийся на фоне остальных своей концептуальной насыщенностью, который, в полном согласии со сказанным нами выше, касается ключевого пункта в полемике о смысле культуры:
Бытие-в-мире и бытие-с – это экзистенциалы, предстающие в разных модусах, в том числе дефектных. Хайдеггер не считал частью конституции бытия небытие (а значит, и риск не мочь быть ни в каком из возможных культурных миров, риск не быть-с) и модальность бытия как интерсубъективное наделение ценностью (а значит, небытие как ослабление полагающей ценности энергии)[38].
В рецензии Пачи, к которой мы теперь возвращаемся, содержится рассуждение, представляющее особый интерес, так как в нем можно увидеть определенную близость между мыслью Де Мартино и итальянским позитивным экзистенциализмом. Философ отмечает, что понятия «изначальной» и «предельной ситуации», которыми пользуется наш антрополог, встречаются и в трудах Николы Аббаньяно,
где из них складывается основополагающая категория структуры, в которой стремление бытия овладеть собой как экзистенцией проявляет себя «не только в изначальной (Хайдеггер) и не только в предельной (Ясперс) ситуации, а в сопряжении предельной и изначальной ситуации». […] Структура экзистенции содержит в себе движение к трансценденции как конститутивный элемент самого экзистирования, приемлющего собственный риск[39].
В этом контексте следует отметить любопытную игру взаимных отсылок. Де Мартино принимает гипотезу, выдвинутую Пачи: он делает это с определенной временно2й дистанции, будучи погружен в интенсивные размышления, из которых вырос сборник под названием «Философские сочинения» – отдельные части его связаны между собой, но не образуют единого текста (или же, возможно, перед нами очерк в форме carnet de notes, дневниковых заметок). Исследователь пересматривает, углубляет, укрепляет систему, разработанную в «Магическом мире», чтобы подготовить ее к очень серьезному испытанию, уже виднеющемуся на горизонте: сравнительному анализу культурных катастроф. В этом интеллектуальном климате созревает и следующее рассуждение, не нуждающееся в комментариях, которое вытекает из новых размышлений над темами, типичными для итальянского позитивного экзистенциализма:
Эти темы позитивного экзистенциализма Пачи (и Аббаньяно) в общих чертах согласуются с подходом, избранным мною для книги о «конце мира». Трансцендентальный этос трансцендирования жизни в ценность хорошо сочетается с интерпретацией трансцендентального у Канта, предложенной Пачи, содержащейся в предложенном Аббаньяно понятии «структуры экзистенции». Таким же образом разрушение этоса трансцендирования […] согласуется с поднимаемой у Аббаньяно (и у Пачи) темой экзистенции, которая может погибнуть, исчезнуть, и мира, который «может» или «не может» иметь основание[40].
2.3. Рецензии Раффаэле Петтаццони и Мирчи Элиаде
Рецензии двух этих историков религии не отличаются такой же концептуальной насыщенностью и накалом страсти, как рассмотренные выше: «Магический мир» не оказал на них влияния, сопоставимого с тем, которое испытали Кроче и Пачи, вследствие – как можно предположить – близкого их знакомства с этнографическими материями. На этих рецензиях, однако, следует остановиться, чтобы выявить мотивы интереса их авторов к работе Де Мартино, в которых, разумеется, не было недостатка.
Р. Петтаццони сыграл решающую роль в переориентации Де Мартино на историю религий и этнологию религии[41]; для его рецензии, в которой можно найти и критические замечания, характерно внимание не только к философскому замыслу работы, но также и к проблемам, которые стоят перед этнологической наукой. Это достоинство не следует недооценивать: принимая во внимание научный авторитет, которым Петтаццони пользовался во всем мире, разумно предположить, что позитивная оценка им историзирующей этнологии и, говоря конкретнее, фундаментального ее положения, предусматривающего расширение нашего историографического горизонта, стала для Де Мартино важным стимулом для дальнейшего продвижения в избранном им направлении.
Мирча Элиаде – наиболее выдающийся представитель феноменологического направления в истории религии, восприимчивого к культурным проблемам современного иррационализма. Контраст с принципами мышления Де Мартино, для которого характерен примат исторического разума, очевиден, и он отмечался неоднократно. Это не мешает сравнивать между собой этих исследователей, принимая в расчет то обстоятельство, что оба они, при всем различии их позиций, внесли решающий вклад в преодоление редукционистского взгляда на религию как «низшую философии» [philosophia inferior], а также в придание теоретического измерения историко-религиозным штудиям. Расхождение этих герменевтических перспектив особенно наглядно проявилось в рецензии на «Магический мир»: прежде всего, оно проявляется в том, что Элиаде исходит из существования метафизической структуры реальности, позволяющей объяснить природу паранормальных способностей и причину их частой встречаемости.
Второе издание «Магического мира» (1958) было дополнено «Заключительными рассуждениями автора», в которых Де Мартино, под влиянием прежде всего полемических замечаний Кроче, собрал в одном фокусе результаты критической ревизии собственной мысли. С одной стороны, он устраняет двусмысленность, проявляющуюся в отделении единства присутствия от конкретных форм, в которых это присутствие себя осуществляет, с другой – твердо отстаивает концептуальное ядро своего текста, а именно, положение о кризисе присутствия как риске небытия-в-мире и открытие особого типа техник (к числу которых принадлежат магия и религия), имеющих целью защитить присутствие от риска[42]. Так Де Мартино наводит мостик к следующей своей монографии, «Смерть и ритуальное оплакивание» (1958), которая начинается со следующих рассуждений:
Радикальная угроза присутствию, разумеется, существует: угроза, которая заключается не в воображаемой утрате воображаемого единства, предшествующего категориям, а в утрате самой возможности удержаться в историческом движении культуры, продолжить его дальше и усилить энергией принятия на себя выбора и действия[43].
3. Гуманитарные науки и философия
3.1. Спасение посредством магии
Дженнаро Сассо посвятил Де Мартино увесистый том[44], который невозможно обойти вниманием – столь разнообразные темы в нем обсуждаются и так высока планка научной строгости исследования. Продемонстрированная автором глубина анализа делает эту книгу заслуживающей отдельного рассмотрения. Опираясь на текст Де Мартино, автор размышляет о принципах и герменевтических процедурах в гуманитарных науках, об истории религий и этнологии из специфического ракурса. Мы остановимся на тех главах «Магического мира», которые философ подвергает суровой критике, побудившей нас по-новому взглянуть на некоторые из ключевых мест этой книги. Сассо останавливается на центральном аргументе «Магического мира»: по его мнению, связь динамического кризиса присутствия и спасения посредством культуры не была в достаточной мере логически обоснована.
Или спасение осуществляет (или должно осуществлять) самое расколотое, а потому уже более не сущее, «я»; в этом случае, очевидно, спасения быть не может. Или же спасение осуществляет «я», и тогда неверно, что это «я» прошло через «необратимую» потерю и утрату себя, подвергшись опасности небытия в самых крайних ее формах […]. В первом случае спасение хоть и необходимо, но невозможно. Во втором оно хоть и возможно, но не нужно. Не нужно, потому что оно и без того заключено в «я», которое, как предполагается, является для него субъектом. Есть, разумеется, и третья возможность. Она заключается в том, что спасение осуществляется tertium quid [чем-то третьим], а именно самой магической энергией, которая, воздействуя на процесс разрушения «я» ab extra [извне], останавливает его и предотвращает гибельный исход. Однако подобная конструкция совершенно чужда как логике Де Мартино, так и экзистенциальной драме магического. В самом деле: она противоречит самому ее понятию, ибо не позволяет ей стать тем, чем она должна быть сообразно своему имени[45].
Рассмотрим третью из предложенных гипотез, так как первые две ясны и без того. С точки зрения Сассо для разрешения кризиса посредством магического ритуала не достает главного, а именно сознательного согласия субъекта принять на себя грозящий ему кризис, чтобы затем его преодолеть: преодолеть его можно – замечает философ – только при условии, что магический человек найдет в себе достаточно энергии, чтобы победить недуг утраты себя и воссоединиться со своей самостью, которая могла погибнуть[46]. Иными словами, нельзя требовать способности преодолеть кризис от безличной силы («магической энергии»), которая, приходя извне, сводит индивида к простому объекту. В основных своих чертах интерпретативная схема Сассо основывается на следующей системе оппозиций: внутреннее/внешнее, ab intra/ab extra [изнутри/извне], сознательное/бессознательное. Возникает закономерный вопрос, в какой мере эта схема может быть использована для понимания динамики, конституирующей магическую драму. В этом контексте следует прежде всего отметить, что «магическая энергия», выступающая в облике абстрактной силы, не существует сама по себе, а только в той мере, в какой она воплощается в системе взаимосвязанных институтов и практик ритуального характера, которые являются неотъемлемой частью культурной традиции конкретных сообществ, населяющих магический универсум. Это соображение смещает фокус рассмотрения на способность институтов содействовать преодолению кризиса. Взгляд Сассо на этот вопрос нашел свое отражение в следующем пассаже, дополняющем приведенный нами выше:
Все же необходимо спросить себя, как возможно, чтобы в том, что более не есть присутствие или, по крайней мере, находится на пути к этому печальному исходу, мог бы, однако, звучать и обозначать свое присутствие «голос», зовущий его к спасению. Нельзя не задаться вопросом, как в терпящем крушение субъекте может действовать такая воля к спасению, что институционализированные формы магии как бы проникают в него и укрепляют его душу, которая, казалось бы, должна была быть парализована шоком и травмирована[47].
В заключительных словах этой цитаты, какими бы парадоксальными они ни казались, как раз и содержится, пусть автор этого и не предполагал, ключ к решению проблемы. То, что на первый взгляд кажется совершенно неправдоподобным, в полной мере становится таковым, если мы оставляем уровень абстрактной логики и сосредоточиваемся на магической инаковости в ее исторической конкретности и помещаем ее в подобающий сравнительный контекст. Это означает также, что мы должны обратиться за помощью к этнографической литературе, чтобы понять, в результате какого процесса «институциональной ткани магии» удается проникнуть в человеческий субъект и изнутри него расслышать голос, зовущий на помощь. Необходимо в этом месте предпринять краткий экскурс, чтобы проиллюстрировать в общих чертах феномен первостепенной важности, касающийся формирования социальных субъектов в лоне цивилизаций, который мы, в силу чистой условности, продолжаем именовать «примитивными» или «магически-примитивными»; речь идет о теме, неразрывно связанной с проблемой трансмиссии коллективного культурного наследия. Наследие это рождается из истории (оно представляет собой осадок культурных завоеваний и выборов, следующих друг за другом в потоке времени) и живет в истории, в коллективной памяти любого сообщества, питающей его и, когда нужно, модифицирующей его и дополняющей. Традиция включает в себя как то знание, которое можно было бы определить как «теоретическое», так и систему практик, адаптированных к различным обстоятельствам существования: именно из ее глубин произрастают культурные ценности, лежащие в основании общинного устройства и воплощающих его институтов. Именно в эту среду проникает «институциональная ткань магии»: речь идет о самом драгоценном коллективном благе, которое наследуется обществом от предшествующих поколений и должно передаваться подрастающим поколениям, чтобы позволить им интегрироваться в социальную ткань.
В «примитивных» цивилизациях институтом, предназначенным для формирования будущих членов общества, являются племенные инициации; неофиты приобретают статус социальных субъектов в результате сложного процесса, в ходе которого они овладевают культурным багажом, необходимым для полноценного взрослого существования. Если сосредоточить внимание на мире, исследуемом Де Мартино, то окажется, что человеческие субъекты, чтобы их воспринимали в качестве таковых, должны, на стадии инициации, интериоризировать ценности и техники, которыми полна культура, укорененная в магическом мышлении. Эта культура обусловливает характерный для оных субъектов способ восприятия реальности, моделирует их внутренние реакции, проникает в их память, которая, ab intra [изнутри], подсказывает жесты, формулы, способы действия, необходимые для того, чтобы противостоять угрозе разрушения присутствия.
В магической цивилизации социальные субъекты переживают травмирующие ситуации в форме парадигматических событий, которые им уже приходилось переживать раньше в «ином» измерении и которые им нужно теперь воспроизвести в настоящем. Сам кризис не является «просто кризисом»: он включается в ограниченное число кодифицированных представлений, составной частью которых является компенсаторный момент спасения. В этот список входят институциональные мотивы атаи, заклинания, сглаз и защита от него, магическая сила, подражание и т. д. Ничего не остается на долю случая и личной инициативы. Равным образом, ситуации, в которых чаще всего возникает для присутствия риск неустойчивости, также предопределены:
[…] одиночество и усталость, вызванные длительным странствием, голод и жажда, неожиданная встреча с опасным животным, столкновение с непредвиденными событиями и т. д. могут подвергнуть тяжелому испытанию способность «вот-бытия» к сопротивлению. Душа легко бы «сгинула», если бы благодаря творческой активности и опоре на надежную традицию не стало возможным остановить сползание вниз, в бездну, грозящее присутствию уничтожением[48].
Завершая наше рассуждение, мы можем констатировать, что стратегии интерпретации, примененные Сассо, не слишком хорошо подходят для того, чтобы разобраться в специфической динамике магической драмы. Жесткая приверженность логико-философским методам, не допускающая ни малейших уступок историко-антропологическому и историко-религиозному подходу, исключает возможность выявить те формы субъективности и самосознания, которые ускользают от наших ментальных схем. Решение выбрать в качестве отправного пункта своего анализа этически-индивидуалистическую модель субъекта не позволила Сассо осознать подлинность перехода от кризиса к спасению, сообразно тому, как этот переход представляется в магическом мышления. Этот переход философ считает неправдоподобным вследствие того, что он не является плодом внутренней работы субъекта. Рецензент развенчивает схему Де Мартино – и, следовательно, всю архитектонику его произведения, – потому что считает пропасть между полюсами исторической драмы магического мира непреодолимой. Анализ тем, рассматриваемых в следующих параграфах, позволит нам проверить с новых точек зрения как обоснованность обвинения в недостаточной логической строгости, которое адресует Де Мартино его критик, так и валидность аргументов, приведенных нами для опровержения этого обвинения.
3.2. Исключение и правило
Представляя читателю вторую главу «Магического мира», мы сделали акцент на культурной функции, которую исполняет шаман/колдун в качестве спасителя присутствия – как своего собственного, так и других членов общины. Исходя из этой предпосылки, Сассо задается вопросом о тех прерогативах, которые делают шамана особенным, одновременно похожим и не похожим на других людей: похожим, потому что он исходно разделяет со всей общиной экзистенциальную неустойчивость, непохожим, потому что только он способен «взять эту неустойчивость под контроль», полагаясь на внутренние силы. Таким образом, двойственность оказывается ключевой характеристикой его индивидуальности; в интерпретации Сассо отношение между «нормальным» человеком с магическим сознанием и шаманом – это отношение неравное:
Шаман переживает драму, знает ее, он выстрадал ее и покорился ей, чтобы одержать над ней верх […], он идет на смертельный риск, чтобы утвердить и отстоять свою свободу. Коллектив, который в этой драме выступает в роли объекта и подвергается не много не мало риску смерти, тем меньше осведомлен об этой драме, чем больше он ей покоряется, принимая ее как свою гибель, предначертанную судьбой, идя навстречу собственному распаду, своему медленному и неумолимому соскальзыванию в «ничто». Именно поэтому через книгу Де Мартино красной нитью проходит фигура мага, шамана как целителя и, более того, как примитивного магического прообраза «Христа», спасающего от греха и смерти[49].
Неравенство между шаманом и другими членами общины основано на схеме, которая противопоставляет, все более последовательно, сознательность одного бессознательности других, способности одного стать субъектом собственного кризиса – пассивному смирению прочих, активности одного – согласия остальных принять уготованную им судьбой гибель, свободе, завоеванной одним, – состоянию вековечной покорности других. Отличие шамана от его соплеменников – свойственная ему глубина самосознания – становится основанием для превосходства. В интерпретации, предложенной Сассо, противопоставление «нормальных» индивидов, потенциальных жертв кризиса, шаману-целителю, ведущему их к спасению – потому что только он один знает, в чем оно заключается – принимает форму отношения между низшим и высшим, которое, в свою очередь, фатальным образом превращается в отношение политического господства:
Такова цена, которую примитивное сообщество неизбежно должно заплатить, чтобы спастись от распада. Шаман и сообщество, в котором он живет и на которое он воздействует, в действительности не находятся в одном историческом времени. Шаман более развит: он спасает и повелевает. Племя развито куда меньше: оно, даже не отдавая себе в этом отчета, подчиняется ради собственного спасения[50].
Бинарную схему, приведенную выше, можно существенно дополнить, если обратить внимание на то, что внутри нее скрывается еще один решительный разрыв: разрыв между двумя историческими эпохами. Шаман, сделавшийся автором собственного спасения и подчинивший себе кризис во всей совокупности его проявлений, ipso facto [самим этим фактом] поднимается на следующую ступеньку эволюционной лестницы, а значит, между ним и другими членами общины, застывшими на исходной стадии развития, пролегает четкая граница. В интерпретации, предложенной Сассо, шаман, как только он ставит кризис под свой контроль, выходит из-под действия экзистенциальной драмы и, следовательно, преодолевает границы магической эпохи, отличительным признаком которой эта драма является: тем самым он в одиночку вступает в историю, приуготовляя путь цивилизации[51]. Нормальные члены общины, напротив, остаются заперты в магической эпохе: это предопределяет расхождение между двумя эпохами, одна из которых связывается с цивилизационными завоеваниями, а другая – с примитивным состоянием, предшествующим наступлению цивилизации. Эта оппозиция – наиболее рельефная из всех – подчеркивает политическое отношение господин/подчиненный, в той мере, в которой отправление власти кажется естественным образом, naturaliter, зарезервировано за индивидом, который умеет представить свою «инаковость» как «превосходство», как средство легитимации властной позиции. Воспроизведение этого общего места, не лишенного взывающих тревогу импликаций, представляет собой наименее убедительный пункт интерпретации, предложенной Сассо.
Решение оценивать фигуру мага изолированно, на уровне индивидуальности, концентрация на исключительных дарованиях, превосходящих способности обычного человека, неизбежно приводит к появлению ницшеанских коннотаций в рассуждении Сассо. «Этот человек, преодолевающий границы своего присутствия, принимает в наших глазах облик, в каком-то смысле, «Сверхчеловека», Übermensch, особенно если префикс «über» понимается в значении «по ту сторону»»[52]. Исходя из подобных предпосылок, Сассо, пусть и с определенными оговорками, в конце концов присоединяется к Кроче, «который разглядел опасность, таящуюся в понимании колдуна у Де Мартино»[53]. Следует, опираясь на источники (и не возвращаясь более к вышесказанному), задаться вопросом о том, какая же опасная ловушка скрывается в рассуждениях, которые неаполитанский антрополог посвятил шаманам.
Реконструкция, предпринятая Сассо, является примером историографии, построенной на гипотезах (storia congetturale), которая в значительной мере воспроизводит эволюционистскую парадигму, полностью игнорируя этнологическую литературу, обильно используемую в трех главах «Магического мира»: в этом, на наш взгляд, состоит главный недостаток этой работы. В полном соответствии с методологическими принципами Де Мартино, в той картине, которую предлагает нам автор рецензии, нельзя не увидеть очевидных признаков регресса в историческом самосознании Запада. Магический/примитивный мир снова, ex novo, проецируется за пределы цивилизации, если правда, что возникновение этой последней совпадает с тем моментом, когда шаману удается вырваться – несколько загадочным путем – за границы магизма. Пристрастное подчеркивание могущества колдуна целителя-спасителя-деспота подразумевает, на противоположном полюсе, превращение рядовых членов общины в бледные тени, витающие на краю пропасти, в которых шаман на время вдыхает дыхание жизни. Как эти существа, не обладающие континуальностью восприятия и совершенно пассивные, могли стать творцами истории (истории sui generis), а значит, и творцами культуры? Однако из этнографических свидетельств следует, что спасти присутствие, которому грозит опасность, могут и «рядовые» индивиды, даже без вмешательства мага: вспомним, для примера, институт атаи. Достаточно прочесть, прежде всего, насыщенный этнографическим материалом очерк, посвященный австралийскому племени ахилпа – это образцовая модель, позволяющая оценить эффективность мифологического и ритуального языка как коллективного инструмента, который, с одной стороны, гарантирует преодоление состояния экзистенциального страха (condizione angosciosa), способного оказать на человека парализующее воздействие и, с другой, открывает всей общине возможность действовать в истории для удовлетворения первоочередных экономических нужд.
В перспективе Де Мартино отношения нормальное/чрезвычайное и индивидуальное/коллективное помещаются в рамки теории культурной динамики, внутри которой гениальная инициатива индивида встраивается в традицию, а та, в свою очередь, обусловливает и питает эту инициативу, и этот круг опирающееся на факты историческое исследование не позволяет разрывать[54]. Фигура шамана воплощает живой синтез инициативы и традиции; этот последний обретает конкретное выражение в магических институтах призвания и дара, прежде всего, в ритуальной инициации, которую будущие шаманы должны пройти, чтобы привести особые способности индивида в соответствие с общепринятым образцом и тем самым добиться коллективного одобрения. Исключительное положение шамана является отражением его способности сознательно достигать пределов собственного присутствия: