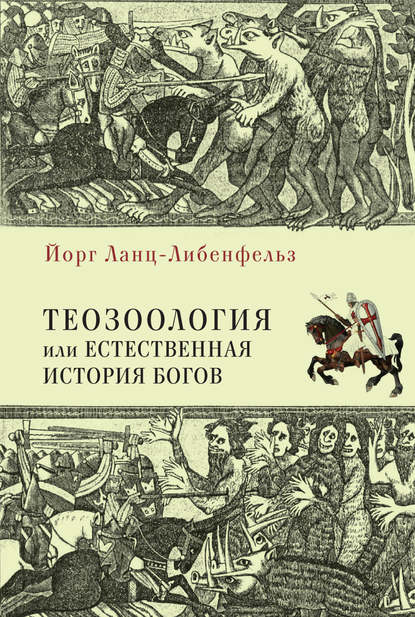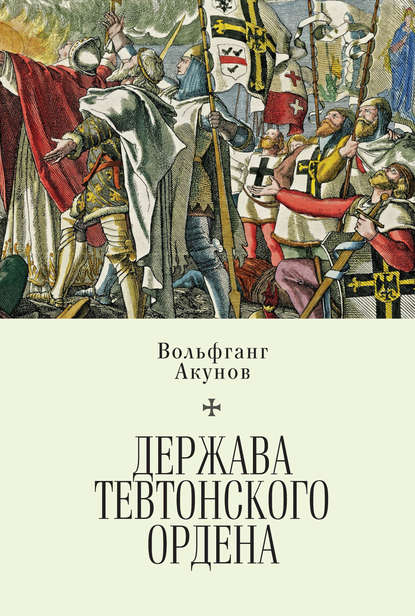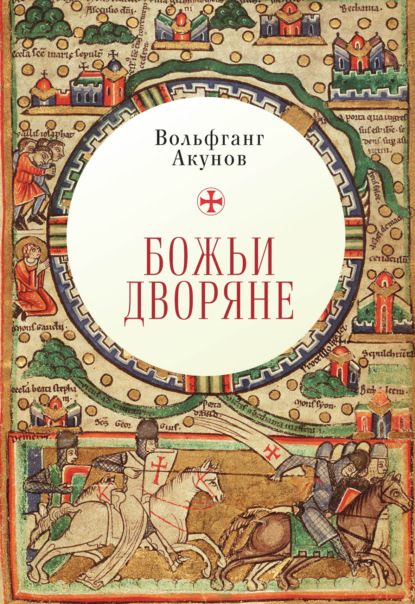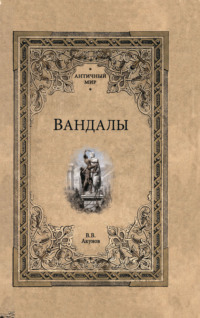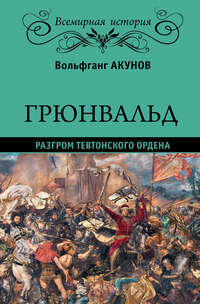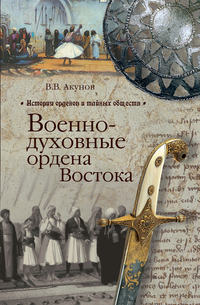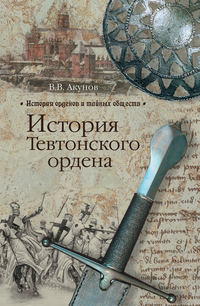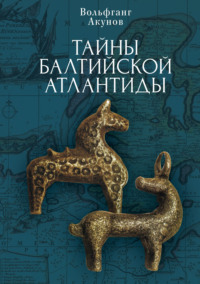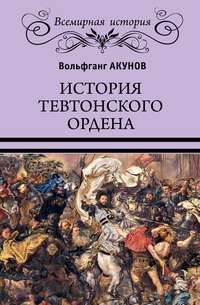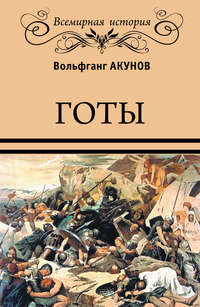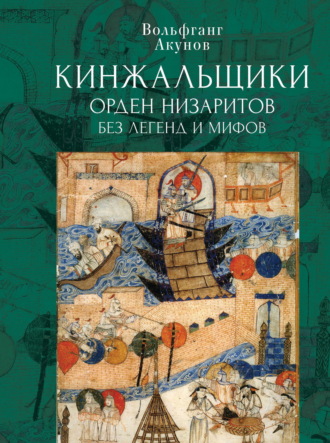
Полная версия
Кинжальщики. Орден низаритов без легенд и мифов
Конечно, концепция «такийи», рассматриваемая ее критиками как «беспринципное приспособленчество» или «отъявленный оппортунизм», на первый взгляд представляется лишенной особой привлекательности и наверняка не раз смущала последователей низаритского движения. Вероятно, она также помогала сторонникам низаризма оправдывать, задним числом, очередную «смену курса», утверждая, что руководители низаритскогоордена никогда не были беспринципными оппортунистами, но всегда шли единственно верным путем, а их кажущиеся «идеологические шатания» служили лишь для отвода глаз политических оппонентов движения. «Такийя» дала критикам низаризма и творцам «черного» мифа о «вероломных ассасинах» дополнительный повод ставить им в вину постоянное двуличие и лицемерие, придававшее обраставшему легендами движению еще более зловещий характер. Однако именно «такийя» оказалась на поверку вполне оправданной и чрезвычайно успешной тактикой, обеспечивавшей низаритскому движению возможность существовать в качестве самостоятельной силы на протяжении куда более продолжительного периода времени, чем можно было ожидать, исходя из имевшихся в распоряжении этого движения достаточно ограниченных ресурсов. Именно в неизменной верности принципу «такийи» лежит ключ к пониманию удивительной жизнеспособности низаритов и их поразительной приспособляемости к меняющимся внешним обстоятельствам и условиям существования в неизменно враждебной среде. Ибо, как уже говорилось выше, низаризм всегда выживал благодаря своей гибкости и своей способности адаптироваться к процессу исторической эволюции.
Понимание этих факторов помогает развеять мифологический туман, окутывающий низарииский орден как факт реальной истории. На дальнейших страницах настоящего правдивого повествования его автор постарается отделить зёрна от плевел и факты от легенд. Это – дело далеко не простое и требующее немалого времени, в отличие от простого пересказа современным языком сочинений авторов времен давно прошедших. Тем не менее, использование современных представлений и подходов помогает разоблачить многие из глубоко укоренившихся за долгие века в людских умах мифов об «ассасинах». Усилия упомянутых выше и других современных исследователей помогли ввести низаритское движение в определенный реально-исторический контекст. Благодаря их исследованиям мы приблизились к правильной и достоверной оценки места, занимаемого низаритским орденом в истории Средневековья и в мировой истории вообще.
Но, невзирая ни на что, удивительно живучая «черная легенда» о вечно жаждущих крови «убийцах-ассасинах» продолжает существовать и сохранять для многих свою привлекательность и в наши дни, в том числе и потому, что она, несомненно, основывается и на подлинных фактах. Не может быть никаких сомнений в том, что множество террористических актов, приписываемых низаритам, действительно были совершены именно ими. Хотя в отдельных случаях вопрос о причастности низаритов к тому или иному громкому политическому убийству может и должен быть предметом обсуждения. Ибо нередко политические отношения низаритов с жертвой приписываемого им террористического акта на момент его совершения были отнюдь не враждебными, а нейтральными, дружественными или даже союзными (что ставит под сомнение целесообразность ликвидации данного «объекта» с точки зрения низаритов). Однако вся нарисованная усилиями творцов легенд и мифов, не пожалевших черной краски для «безбожных и вероломных кинжальщиков», картина «низаритского беспредела» продолжает свое существование (причем не только в компьютерных играх и комиксах), хотя является не более чем карикатурой на историческую реальность.
От мрачного очарования этой «черной легенды» не оказались застрахованными даже многие поистине великие историки. Например, сэр Стивен Рансиман, автор классической «Истории крестовых походов», писал о теснимых мусульманами «франках» Заморья, что никто из них не знал, сможет ли он избежать удара наточенного на него ножа приверженца ассасинов. Однако, несмотря на огромное впечатление, производимое представителями низаритской группировки как на индивидуальное сознание каждого «франка», так и на коллективное сознание «франкского» Запада, трезвомыслящие современные историки (например, Фархад Дафтари, хотя порой и «перегибающий палку» в своем нескрываемом «низаритофильстве») склоняются к мнению, что, в отличие от утверждений «черной легенды», в действительности жертвами низаритов, направлявших острие своего террора главным образом на выдающихся представителей не христианского, а исламского мира, пало не более пяти «франков».
Исполнителями «ассасинских» террористических актов, согласно популярным представлениям, вошедшим, прежде всего, в художественную литературу (вплоть до знаменитого романа «Граф Монте-Кристо» любимого писателя наших детства-отрочества-юности Александра Дюма-отца) были якобы слепые фанатики, находившиеся в состоянии наркотического безумия. И это – вопреки тому факту, что «кинжальщики» грозного главы низаритского ордена – «Горного старца» действовали всегда с холодным, трезвым, безошибочным расчетом, на что люди, одурманенные наркотиками, просто не были бы способны. Для характерного для низаритов поистине виртуозного совершения терактов требовались глазомер, быстрота, точность и твердая, верная рука, чего, как по отдельности, так и в совокупности, вряд ли можно было ожидать от наркоманов. Да и часто приводимое сравнение низаритских «фидаинов»-«федави» с людьми, пусть и не опьяненными наркотиками, но находящимися в состоянии малайского «амока», также абсолютно некорректно, ибо последние, в своем состоянии слепой ярости, или одержимости, способны убить первого попавшегося, случайного человека, но не заранее выбранную и тщательно выслеженную жертву. Существует основанное на утверждениях средневековых «франкских» хронистов стойкое представление (а у многих – даже убеждение), согласно которому «ассасины» были готовы, по первому же щелчку пальцев своего главы, мгновенно напороться грудью на торчащие из стены железные острия или бестрепетно спрыгнуть в пропасть с высокой башни своей горной крепости-убежища – только ради того, чтобы продемонстрировать свою слепую преданность «Горному старцу» и полное пренебрежение собственной жизнью. Что они якобы владели искусством превращаться в призраки и даже становиться невидимками (совсем как японские ниндзя). Что, сделавшись невидимыми, «кинжальщики» были способны прокрадываться совершенно незамеченными через ряды вооруженных до зубов телохранителей своей будущей жертвы и успешно выполнять порученное им задание.
В действительности все было совсем иначе. Исторические низариты были, в отличие от легендарных «ассасинов», отнюдь не бестелесными призраками, а вполне земными, из плоти и крови, приверженцами и членами реального религиозно-политического ордена. Впрочем, подлинная история этого реального ордена и возглавленного им движения представляется, при ближайшем рассмотрении, ничуть не менее захватывающей, увлекательной и интересной, чем «черная легенда об ассасинах». На протяжении всего периода Средневековья политика и религия в исламском (как, впрочем, и в христианском) мире были настолько переплетены между собой, что отделить одну от другой просто не представляется возможным. Низариты использовали политические убийства как одно из многочисленных имевшихся у них в распоряжении средств обеспечения выживания и упрочения своего дела. Не менее, но и не более того. На протяжении всей своей долгой истории низаритское движение было более склонно использовать не столько убийц, сколько миссионеров-проповедников (известных как «дай», «даисы» или «деи»), и опираться в деле расширения сферы своего влияния именно на них, а не на смертников-«фидаинов». Постоянное воздействие, оказываемое этими проповедниками – «даисами» или «деями» – наумы мусульман, внимавших их тайным проповедям, было гораздо сильнее эффекта от терактов, совершаемых «кинжальщиками». В результате миссионерских усилий «даисов» влияние ордена низаритов распространилось далеко за пределы его первоначального «очага», расположенного на территории Ирана, вплоть до Сирии, Центральной Азии и даже Индии, в которой до наших дней сохранились достаточно крупные низаритские общины. Эти проповедники шли на большие жертвы и на огромный риск, подвергая себя великому множеству разного рода опасностей ради выполнения своего священного долга и успеха дела, которому они посвятили всю свою жизнь. Вдохновенные своей проповеднической миссией, известной под уже упоминавшимся выше названием «дават», они подвергались ежедневной угрозе быть обнаруженными агентами враждебных их движению духовных и светских властей, что грозило им неминуемой и, как правило, крайне мучительной смертью. Причем многие из «даисов» действительно заплатили жизнью за стойкое исповедание и проповедь своей веры, став, в глазах своих собратьев и последователей святыми мучениками – «шахидами». И потому готовность к самопожертвованию и преданность своему делу не на жизнь, а на смерть, занимали в истории орденанизаритов гораздо большее место и имели для их успеха гораздо большее значение, чем интриги и убийства…
Эта книга была написана, невзирая на огромное количество сочинений, посвященных «ассасинской» теме, чтобы, расчистив многочисленные легендарные напластования, попытаться поместить низаритское движение в реально-исторический контекст. Что представляется делом совсем не простым, учитывая живучесть и устойчивость «черной легенды» об «ассасинах». Тем не менее, искушение написать подлинную историю низаритского ордена (не впадая в искушение пытаться написать историю низаризма как религиозного течения, историю Ближнего и Среднего Востока, историю Крестовых походов, историю измаилизма, историю шиизма и историю ислама вообще) было слишком велико, чтобы автор отказался от своего давнего намерения (в том числе, и ради своей реабилитации в глазах уважаемых читателей за свое прежнее, слишком доверчивое к легендам и мифам об «ассасинах», отношение к низаризму, отразившееся в нескольких его предыдущих книгах, в той или иной мере затрагивающих «батинитскую» тему).
Как и прежние книги, вышедшие из-под моего пера, история низаритского ордена в самом сжатом очерке – книга не научная, а научно-популярная, рассчитанная, прежде всего, на массового читателя. Ни в малейшей мере не претендуя на знание «истины в вышей инстанции», я надеюсь, что специалисты – востоковеды, иранисты и религиоведы – если им, паче чаяния, попадется в руки этот скромный труд – плод уединенных размышлений и исследований, простят мне недостаточную глубину познаний и недостаточную степень проникновения в тот или иной аспект рассматриваемой темы. Я счел необходимым определенным образом расширить круг повествования, добавив к истории низаризма как такового описание некоторых событий, способствовавших его росту и распространению – таких, как зарождение и эволюция ислама, эпопея «франкских» Крестовых походов, чтобы массовому читателю – главному адресату настоящего правдивого повествования – было проще понять внешние обстоятельства возникновения и развития низаритского ордена. В противном случае уважаемому массовому читателю было бы довольно затруднительно понять и осознать, что представляла собой внешняя среда, в которой было предназначено судьбой бороться и выживать низаритам, какое воздействие эта среда оказывала на них, и какое воздействие они, в свою очередь, оказывали на эту среду.
Автор настоящего правдивого повествования поставил себе задачу и цель проследить и представить уважаемым читателям довольно сжатый очерк истории низаризма с момента возникновения ислама – мусульманской веры – в начале VII века п. Р. Х., коснувшись создания низаритского ордена в XI веке, его развития в последующие века, и вплоть до конца существования независимого низаритского орденского государства на территории Сирии, не касаясь дальнейшей истории низаризма как исламского религиозного течения и положения низаритов в современном мире. Автор рассматривал низаризм в исторической перспективе, в процессе развития. Ибо, с точки зрения автора, дать верную картину исторического пути, проделанного низаризмом, возможно лишь показав читателю, какие огромные изменения происходили в недрах ислама в ходе его развития и в прилегающих к «миру ислама» регионах, создавших, в своей совокупности, тот мир, в котором жили и боролись низариты.
Возможно, «черные легенды», затуманивающие и искажающие подлинный облик низаритов, окажутся слишком дороги тем или иным из уважаемых читателей, чтобы они согласились с ними расстаться, даже ради установления исторической правды. «Тьмы низких истин нам дороже…». И тем не менее, автор посоветовал бы уважаемым читателям, пусть скрепя сердце, сделать над собой усилие и постараться дочитать это правдивое повествование до конца, ибо надеется, что его сочинение поможет покончить со многими ложными представлениями о низаритском движении, особенно за пределами собственно исламского мира. Искаженное восприятие низаризма отнюдь не способствует объективной картине мира и истории вообще. Реальным и несомненным достижением низаритов является не их воображаемая способность летать по воздуху или становиться невидимками, а сам факт их выживания, вопреки многократно представлявшимся совершенно непреодолимыми препятствиям в лице крайне неблагоприятных для них внешних обстоятельств и угроз. И потому подлинная история низаритского ордена стоит того, чтобы быть рассказанной, «без гнева и пристрастия».
«Сгибни мир, но соблюдись истина!», как писал в свое время славянский просветитель-иезуит и человек трудной судьбы Юрий Крижанич.
* * *1. Сотворение мира ислама
В середине I тысячелетия, начавшегося с Рождества Христова, в Аравийской пустыне поднялась и разбушевалась великая буря, как будто оправдавшая собой реченья иудейского и христианского Священного писания о «порождениях драконов аравийских, которые выступят и с быстротою ветра понесутся по земле, так что наведут страх и трепет на всех, которые услышат о них».(3-я книга Ездры, 15. 29.). Неудержимая и сметающая все на своем пути, она пронеслась по древним христианским и маздаяснийским, или же зороастрийским, землям Ближнего и Среднего Востока и распространилась оттуда по всему обитаемому миру, сокрушая все и вся, осмеливавшееся ей противостоять. Казалось, никто и ничто не в силах удержать ее напор, подавлявший всякое сопротивление. Жестоковыйные и не способные смириться с изменившейся реальностью, строптивцы, обманывавшиеся насчет ее неодолимой мощи, и потому считавшие себя в силах ей противостоять, подхватывались и сметались арабским нашествием, подобно травинкам или соломинкам, подхваченным свирепым смерчем или ураганом. Сила черпавших уверенность и вдохновение в своей новой вере арабских завоевателей была беспрецедентной и казалась невероятной, с учетом могущества и долговечности (казавшейся многим почти что вечностью) сокрушаемых арабами режимов. Но, несмотря на всю свою сокрушительную мощь и на смертельный страх, вселяемый ею в сердца и души племен и народов, побежденных и покоренных этой новой силой, их древние культуры не были искоренены, но во многом сохранились и даже возродились под властью завоевателей, хотя уже в новом, исламизированном, обличье. В крови и огне осуществленных арабами завоеваний родился новый, исламский, мировой порядок, в условиях которого произошел новый расцвет культуры, искусства и науки. Христианская Европа пребывала в состоянии культурного упадка, в то время как в мусульманском халифате переводили на арабский язык античных греческих авторов, создавали литературные шедевры и изобретали алгебру. Исламская буря смела прежние верования и прежний образ жизни, но только для того, чтоб заменить их новыми, лучшими во многих отношениях.
Однако новая, победоносная сила, исполненная духа новизны, несла в себе зерна будущих внутренних конфликтов и междоусобиц. Исламская буря высвободила силы, контролировать которые ей с течением времени становилось все труднее и сложнее. Подобно многим другим великим религиям, ислам вскоре начал раздираться внутренними противоречиями и конфликтами, ибо приверженцы тех или иных образовавшихся в рамках ислама толков считали лишь их собственный истинным, ведущим к спасению, а все прочие толки – достойными всяческого осуждения «партийными уклонами», или, выражаясь традиционным языком – отклонениями от истинной веры. В ходе то и дело разгоравшихся по вопросу об истинном правоверии диспутов образовывались «фракции» (или, если угодно, «секты», то есть, буквально, «осколки»), Эти группы рассматривались представителями религиозного «мейнстрима», исламского большинства, как достойные лишь сожаления и осуждения «ереси».
При написании истории так называемых «ассасинов», претендующей на полноту и объективность, невозможно обойтись без предварительного описания религиозной и политической среды, в которой зародилось это, во многом, остающееся по сей день загадочным движение. Ибо истоки их верований возникли и сформировались в ранние годы ислама. Эти ранние годы, богатые поистине эпохальными событиями, имели решающее значение, с точки зрения своих дальнейших последствий. Ближний и Средний Восток (бурлящие и взрывоопасные и в нашем XXI веке) были регионом, переживавшим в описываемую нами пору бурные времена, которые, однако, можно, с современной точки зрения, рассматривать всего лишь как прелюдию к еще более бурным временам, ожидавшим его в десятилетия, непосредственно предшествовавшие созданию группировки, известной, главным образом, под названием «низаритов». Новые, еще неведомые миру силы, выпущенные на свободу, как джинн из бутылки в известной арабской сказке, в ходе возникновения ислама, драматическим образом изменили структуру не только Ближнего и Среднего Востока, но и прилегающих к ним соседних областей. Они неоднократно «переформатировались», «перезагружались» в ходе целых серий сменявших друг друга вторжений, завоеваний и религиозно-политических «перестроек». Именно в этом подвергающемся самым частым и радикальным изменениям ближне— и средневосточном регионе, по которому постоянно гулял «ветер перемен», и возникли низариты.
Новая религия – ислам, что означает «покорность (Богу – В. А.)» – возникла в Мекке в ранние годы VII века п. Р. Х. Мекка – существовавший с незапамятных времен торговый город и религиозный центр, расположенный на Аравийском полуострове, чьи купцы издавна торговали со странами Восточного Средиземноморья ценными товарами, доставляемыми из далекой Индии – был священным местом еще до появления ислама в данном регионе. За древними стенами Мекки, в том самом месте, где Измаил, считавшийся, в арабской традиции, старшим сыном Ибрагима (соответствующего ветхозаветному патриарху Аврааму иудеев и христиан) и прародителем всех арабских племен (отчего христиане называли арабов «измаильтянами»), построил свой первый дом после изгнания своим отцом в пустыню, находилась главная арабская святыня – священная Кааба (буквально: «Куб»). Мекканский город-государство, возглавляемый богатой купеческой олигархией, можно было сравнить с итальянкими торговыми республиками времен Средневековья – Венецией, Генуей, Пизой, Амальфи. Весь мекканский правящий слой происходил из одного и того же, широко разветвленного, племени Корейшитов (Курайшитов). Именно в Мекке арабскому купцу по имени Мухаммед – отпрыску менее состоятельной ветви Корейшитов – рода Хашимитов, женившемуся на состоятельной вдове-корейшитке, было дано откровение (или, выражаясь языком современных психологов – «инсайт») в 610 году. Обретший, вследствие этого «инсайта», или «озарения», божественное вдохновение, ставший пророком (посланником) Истинного, Единого Бога, Мухаммед начал проповедовать обретенную им новую веру, основы которой были записаны в Предвечной Книге – Священном Коране —, чье содержание было открыто Мухаммеду ангелом Джебраилом (аналогичным архангелу Гавриилу христиан). По мнению ученых-религиоведов, пророк новой веры позаимствовал немало от других религий, прежде всего – от иудаизма и христианства (согласно Л. Н. Гумилеву – в форме адапционистской ереси Павла Самосатского). Сам Мухаммед считал многое в христианской религии верным и истинным. Он признавал, что Иисус (по-арабски – Иса), описанный в христианских евангелиях, был не только пророком, но и святейшим из всех святых. Мухаммеду не составило большого труда даже признать принцип чудесного рождения Девой Сына (правда, являющегося самым праведным на свете человеком, а не воплощенным Богом). Однако в то же время Мухаммед не признавал христианскую концепцию Триипостасного Бога, или Троицы – Отца, Сына и Святого Духа. С точки зрения основателя ислама, вера христиан в Троического Бога означала, по сути дела, веру в более чем одного бога, а многобожие он решительно отвергал. Новая религия основывалась, прежде всего, на том, что Мухаммед считал чистым принципом единобожия, или монотеизма, и в ее «пантеоне» нашлось место лишь для одного, единого, единственного Бога.
На протяжении периода формирования новой, мусульманской веры, эта первоначальная доктрина переживала неизбежный процесс эволюции, столкнувшись с необходимостью реагировать, в ходе этого развития, на все большее число политических и социальных проблем, аспектов и моментов. Ислам, вне всякого сомнения, представлял собой, в первую очередь и главным образом, религиозную (или, на языке нашего времени – идейную, идеологическую) силу, но, по мере своего роста и укрепления, он не мог не вторгаться и в иные сферы человеческого существования. Что делало неминуемым его столкновение с теми защитниками существующих порядков, которые придерживались противоположных взглядов и убеждений. Вопрос, когда дальнейшее развитие данной тенденции приведет к открытой конфронтации с защитниками старого, доисламского, арабского «истеблишмента», был всего лишь вопросом времени. Ибо в неизбежности этой конфронтации не могло быть (и не было) ни малейших сомнений…
Естественно, поначалу вера, проповедуемая Мухаммедом, не пользовалась поддержкой более влиятельных и состоятельных сограждан новоявленного пророка – «отцов» города Мекки. Первыми последователями пророка веры в Единого Бога были его почтенная супруга Хадиджа бинт Хувайлид, а также его зять и младший двоюродный брат Али ибн Абу Талиб – человек, которому суждено было играть важную роль в развитии ислама. Небольшая поначалу, община правоверных – «умма» – постепенно разрасталась, распространяя и усиливая свое влияние как на мекканцев, так и на стекавшихся в Мекку паломников со всего Аравийского полуострова. Мухаммеду удалось обратить в новую веру своих ближайших соседей, и примерно к 619 году вокруг пророка уже сложилась в Мекке не слишком многочисленная, на первых порах, зато непоколебимо верная и преданная ему и проповедуемому им учению группа последователей.
Именно в 619 году в жизни основателя ислама произошел новый важный поворот, ибо Мухаммеду было суждено отправиться, по благой и неисповедимой воле Аллаха, в новое, уже не только литературное и духовное, но и реальное странствие, преобразившее не только его собственное бытие, но, постепенно, и бытие миллионов других людей. Пророку посчастливилось обрести в Мекке влиятельного покровителя в лице своего дяди Абу Талиба ибн Муталиба, ставшего «муслимом» (то есть принявшего ислам) и с тех пор оказывавшего своему племяннику-пророку деятельную поддержку до конца своей жизни. Но смерть Абу Талиба поставила лишившегося его поддержки Мухаммеда в чрезвычайно опасное положение. Ополчившиеся против религиозного реформатора могущественные враги – арабские религиозные традиционалисты-«родноверы» (являвшиеся, с точки зрения ислама, «многобожниками»-идолопоклонниками) заставили пророка бежать из Мекки в традиционно соперничавший с нею город Ятриб, получившую после его переезда туда название Мединат эн-Наби (араб. «город пророка»), или просто Медина. Это вынужденное странствие (а точнее – бегство) Мухаммеда из своего родного города вошло в историю ислама под названием «хиджры», с момента которой начинается мусульманское летоисчисление. И это не случайно. Ибо именно в Медине ислам сбросил с себя ставшее ему слишком тесным платье сектантской общины.
В очередной раз оправдались как евангельское речение Иисуса: «Нет пророка в своем отечестве», так и обращенные к не пожелавшим прислушаться к христианской проповеди «жестоковыйным» иудеям слова христианского апостола Павла: «Пойду к язычникам – они и услышат».
На протяжении последующего периода жизни мусульманского пророка, проведенного в Медине, нежные ростки нового вероучения, посеянного им в людских душах, расцвели пышным цветом и принесли долгожданные плоды. В Медине издавна существовала многочисленная и влиятельная иудейская община, и Мухаммед попробовал перенять многие из ее верований. Некоторое время его личная вера казалась весьма близкой к иудаизму. Однако же затем случилось нечто (возможно – новое «озарение»), побудившее пророка изменить свой прежний курс. Дом Мухаммеда в Медине был превращен им в первую мечеть (арабск.: «месджид», что означает «место поклонения») – молитвенный дом новой религии. Весьма символичным представляется то обстоятельство, что дверь мечети первоначально выходила на Иерусалим (или, по-арабски, аль-Кудс). Но со временем расположение входа в мединскую мечеть было изменено, после чего он оказался обращен в сторону Мекки. Переориентация входа в мединскую мечеть— храм новой веры – с Иерусалима на Мекку, также представляется глубоко символичным, свидетельствуя о все более явном расхождении новой исламской религии с древней иудейской. В 625 году отношения между иудейской общиной и сторонниками Мухаммеда в Медине обострились настолько, что переросли в вооруженный конфликт. Иудеи были частью изгнаны из города, а частью – перебиты.