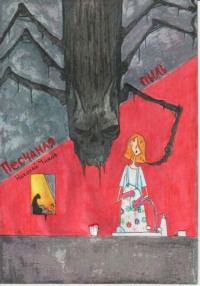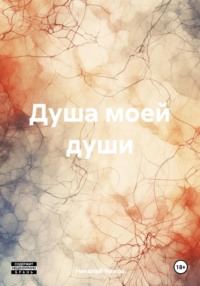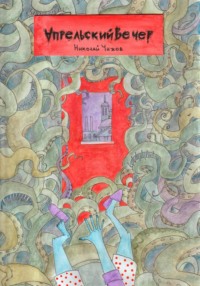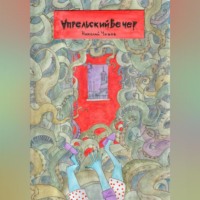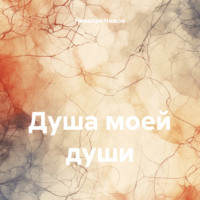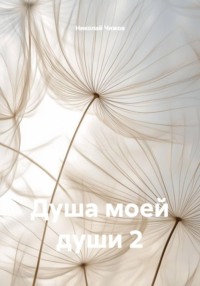Полная версия
Рябиновый крестик

Николай Чижов
Рябиновый крестик
Путник озябший в темном лесу место искал, где согреться.
Ночь холодна, да и травы росою студеной слезились.
Он искроносный костер запалил, ветер пламя удвоил.
Ожил, багровую рясу расправив, огонь, что все жарит.
Рыжая белка, беги! Твою стаю копируя, пламя
В красные кроны осенние зелень дерев обрядило.
Страшен, и чуден, и ярок был их листопад погребальный.
Птицы! На юг бы! Да перья расплавлены, неба не видно.
Черными стали цветы и исчезли в жестоком пожаре.
Если бы кровь в небесах замерзала и снегом колючим
Падала медленно вниз, на деревья и сонные долы,
Стали бы зимы похожи на лес, что пожаром охвачен.
Вьюгою искры кружáт в нем, и ветр злокипящий в нем воет,
Кучи горячей золы собираются снизу в сугробы,
Радостный смех раздается – то дьявол в перчатках железных
Катит шары из золы, и вздымает, и в воздух бросает.
Несся огонь беспощадный. Охотника встретив беспечно,
Сам он охотником стал и вцепился в желанную жертву.
Волосы рыжие черными стали и вскоре сгорели,
Быстро браду его сбрил брадобрей огнерукий без бритвы,
Жир закипел, припекаясь, и лопалась белая кожа.
Страшно охотник кричал от чудовищной боли, не видя
Пяди земли, где, катаясь, нашел бы в беде он спасенье:
Всюду под ним, и над ним, и вокруг полыхало нещадно.
Вскоре уже ничего не могли разглядеть его очи,
Что из глазниц потекли на покрытые сажею щеки.
Тише стал крик, и прервался, и рухнуло гулкое тело.
Сжались от жара нещадного сильные, дюжие мышцы.
В жизни своей не питавший пристрастия к зрелищам ринга,
Замер охотник, принявши навеки стойку боксера.
Как же страшна легкомыслием жертвы рожденная участь!
Александр Некроус «Сказки Великого леса»
Максим Павлович небрежно перелистывал аккуратно подшитые шуршащие страницы.
– Отличная работа, Петр. И тема для курсовой. Мне нравится. Вы большой молодец. И с выводами я согласен. Единственное замечание: некоторые данные слишком уж спекулятивны. Не хватает полевой работы. Как бы странно это на философском факультете ни звучало. Последователи протопопа Аввакума существуют и по сей день – впрочем, так же, как и их гонители. Возможно, общение с ними оживит ваш труд, обогатит знание о предмете, так сказать.
Ошарашенный неожиданным резюме, Петр стоял рядом и думал: да какого черта этот адепт научного атеизма критикует его прекрасную работу? И что вообще смыслит в этом ?
Максим Павлович между тем продолжал:
– Пересказ известных цитат и работ наших историков и славянистов мне не нужен. Я их и так знаю. Необходимо добавить то, что они упустили или не знали. Сейчас у нас перестройка, гласность, открытость. Многие источники стали доступны. Сходите, пообщайтесь с носителями традиции, лучше со студентами богословского вуза или семинаристом вашего возраста, легче друг друга поймете…
Тут он поднял на Петра пронзительные, недовольные ярко-голубые глаза.
– Как они видят вот это вот, что вы тут написали. Наверняка кто-то занимается подобного рода вопросами, только изнутри традиции. Тема литургического времени все-таки не абстрактный конструкт, поэтому она смотрится неполно в отрыве от общего религиозно-философского контекста.
Максим Павлович поправил очки указательным пальцем.
– Кстати, преподаватели нашего университета, – и сделал неопределенный жест в сторону, – читают циклы лекций, на которые ходят студенты-богословы. Это вам подсказка, где искать сих диковинных зверей.
***
Петр плелся по серому коридору, размышляя, как не повезло ему с научруком. Источники, понимаешь, стали доступны… Вот и копался бы в них сам, в этих источниках! Что тут добавлять? Кандидатскую, что ли, из курсовой делать?
Нет, найти упомянутого богослова проблемой как раз-таки не было, Петр и без Максима Павловича знал, где водятся эти «звери», слава о которых гуляла по всему университету. Но будет ли толк? В последнем он не был уверен. «Звери», на его взгляд, на знатоков истории и философии своей Церкви не особо походили. Хорошо, если читали хоть что-то, а не только иконы целовали.
***
В понимании Петра, семинарист представлял собой или совсем дремуче-берестяное окающее существо, или – второй вариант – утонченно-замоленного странного парня в средневековом балахоне, как в клипе Enigma «Sadeness». Никита не соответствовал ни одному из образов. На вид лет двадцати пяти, но, как позже узнал Петр, на самом деле ему не было и семнадцати. Богослов выглядел старше. Его порекомендовал общий знакомый, с которым Петр столкнулся на каком-то «настоящем» студенческом «чаепитии» – это когда просыпаешься не просто в неизвестном месте с незнакомыми тебе людьми, не имея ни малейшего понятия, как здесь очутился, но даже не представляешь, как это место назвать.
Никита оказался крупным, крепким, крестьянской породы круглолицым парнем с черными длинными волосами. Он пользовался неизбывным успехом у вечных девочек с певческого, да и с других отделений тоже. Хотя из богословского института за блуд могли и отчислить, если бы деканату стали известны его похождения.
Для верности Петр пошел на «охоту» не один, а с приятелем Егором с факультета этики. Тому сразу лишнюю котлету в столовке давали, лишь бы рта не раскрывал. «Ловцам» сразу же повезло: из широкого коридора не выбежал, а вальяжно вышел искомый «зверь» и направился в сторону аудитории П-11.
Петр «зверя» окликнул и дипломатично начал с нейтрального:
– Привет, меня зовут Петр, можно с тобой поговорить?
Неторопливый взгляд, которым Никита окинул парней, ясно выражал, что сам Петр, как и его товарищ, да и их разговоры, ему неинтересны.
– На тему?
Голос у Никиты оказался по-мальчишески звонким, с хрипотцой. Нахальным, пожалуй, даже наглым. Услышь Петр такой на улице, в голове всплыли бы слова «пацан» и «шпана». При этом Петру явственно казалось, что от нового собеседника пахнет ладаном.
Скороговоркой Петр выпалил:
– Слушай, дело такое, я пишу работу о понятии литургического времени в «Житии протопопа Аввакума». Ты ведь студент богословского, можешь мне помочь прояснить несколько моментов?
Искорка интереса на мгновение зажглась и тут же погасла. Молчание Никиты затянулось, наливаясь угрюмостью, как грозовая туча. Он как-то насупился, весь подобрался, и Петр уже приготовился к тому, что его сейчас пошлют, но тут вмешался Егор:
– Минут десять у тебя отнимем. Больше не потребуется. Ничего серьезного, так… Оглянуться не успеешь, а мы уже все.
– Точно. Всего пару вопросов, – поддакнул Петр.
Это развеяло грозу. Он почувствовал, что мяч инициативы перехвачен.
– Ладно… Но у меня сейчас лекция, – прикинул Никита, – давайте встретимся в кафе на втором. В полдевятого. Там и поговорим.
– Спасибо. Буду ждать там.
Петр посмотрел в спину удаляющемуся Никите. Выдохнул и переглянулся с Егором. Тот улыбнулся, хлопнул его по плечу:
– Не благодари. Кстати, знаешь, что общего у попа, наркомана и бухгалтера?
– Эм-м, нет, – Петр уже понимал: сейчас услышит какую-то сальность.
Егор радостно рассмеялся ему в лицо.
– Приход!
***
Местное кафе располагалось в огромной рекреации – зале с четырехметровыми потолками и стеклянными стенами. Стойка скрывалась за небольшим ботаническим садом: листья монстеры и пальмы создавали ощущение тропиков. В воздухе стоял аромат свежей выпечки, корицы и ванили.
Петр взял черный кофе, парочку песочных колец с орехами, бутерброд с сервелатом и свое любимое миндальное пирожное. За чтением «Мыслей буддиста» полтора часа пролетели незаметно, так что затекли ноги. За окнами стемнело, приближался час закрытия кафе; кроме Петра, посетителей не было. «Если бы сейчас начался библейский потоп, он стал бы завершающим аккордом этого вечера», – Петр мрачно покосился на «Полет» на запястье. Уж не забыл ли про него чертов семинарист?
Не успел он додумать эту мысль, как из темноты коридора вышел Никита и с размаху шваркнул портфель на стол.
– Есть что-нибудь пожрать? А то я только завтракал.
Удивленный Петр пододвинул к оголодавшему богослову недоеденное песочное кольцо.
Никита разочарованно поморщился, потом вздохнул и перекрестился.
– Ну что у тебя там? – спросил он, окончив трапезу. – Давай излагай, разберемся и разбежимся.
И Петр начал излагать.
Он честно хотел уложиться в десять, в крайнем случае пятнадцать минут, как они и условились. Но, конечно, увлекся. Вопрос обращения к моменту священного времени, то есть к конкретному историческому событию, которое случилось две тысячи лет назад, был в сфере его научных интересов. Штудировал источники он исключительно из любознательности и до разговора с Максимом Павловичем считал свою работу на философском факультете (в прошлом – факультете научного атеизма) идеальной и новаторской.
Никита молчал, смотрел в пустую тарелку и полусонно кивал, как экзаменатор после трех часов в приемной комиссии. Петр поостыл, поскорее скомкал лекцию и, предварительно уточнив, деловито записал ФИО, курс и факультет нового знакомого для ссылки на информанта. Пусть Никита не проявил особого интереса к его изысканиям, так даже лучше. Зато не внес никаких поправок в его слаженную, идеальную теорию. Формально задание выполнено, практическая часть дополнена, – чего еще желать?
Уже собрались расходиться, как в обычной болтовне случайно обнаружился удачный поворот – Никита оказался выходцем из старообрядческой общины.
Петр недоверчиво ахнул:
– Да ты что! Ты, наверное, сможешь мне рассказать сразу о двух традициях? Не против, если я еще поспрашиваю? А как же ты, – он осекся, – старообрядец, а учишься в никонианском вузе?
Никита лишь страдальчески поморщился, смирившись, кажется, с оригинальными научными порывами нового знакомого.
– Хорошо, гони свои вопросы. Только давай из университета выйдем, я поесть куплю, и продолжим.
– Угощаю.
Никита оживился, в интонациях зазвучал прежний нахальный тон:
– Давно бы сбегал в магазин да угостил! Проще бы пошло, ну!
Петр во второй раз отметил в собеседнике резкую перемену настроения, но сейчас не время было это обдумывать.
– Чего сидишь? – Никита уже тянул его к выходу. – По пути расскажи, кстати, почему тебя вообще эта тема заинтересовала. Сейчас все больше по Шамбале да по Беловодью.
У Петра открылось второе дыхание. Лихорадочно жестикулируя и не замечая ничего вокруг, он врезался в деревянную тумбочку около поста охраны и чувствительно ударился, но продолжал монолог.
– …Даже после знакомства со всеми материалами я не могу поверить, что тысячи людей были запытаны, сосланы, сожжены на кострах и в срубах, обезглавлены, повешены из-за разницы в совершении церковных обрядов. Они ж не сделали никакого зла, не убили, не украли, не предали… Что должно быть у людей в голове? Что может заглушать базовые инстинкты: самосохранения, материнской любви, жажды жизни, наконец? Государственные и церковные элиты были заинтересованы в реформах. Но обычные верующие, ученые того времени, грамотные, книжные, полиглоты – добровольно шли в огонь ради сохранения древних порядков… за слово! нет! за титло себя жгли! Что это был за мир? Что это были за люди? Я только в начале пути, но очень хочу докопаться до первопричины. Я обязательно докопаюсь!
Петр на секунду умолк. Толкнул стеклянную дверь. Они вышли в прохладу осеннего вечера, густо сдобренного сигаретным дымом. На ступенях стояла стайка молодежи, шумно обсуждала свои студенческие будни, посмеивалась и курила.
– Я изучал понятие времени у разных философов: и у Хайдеггера, и у Платона, – Петр шел сквозь табачные облачка, размахивая руками, точно пытаясь их разогнать. – Ну и решил посмотреть, что в русской философской традиции пишут. У древних греков все по кругу – биологический цикл мироздания: детство, юность, зрелость, старость, дряхлость. При этом греки, да и не только греки, очарованы золотым веком, детством мира, эталоном, на который они всегда оглядываются, – там были идеальные люди, идеальные правители, идеальные боги. Но оно закончилось, и мир катится к своему упадку и гибели. Или же это цикличная модель небесного круга, повторяющиеся циклы и движения звезд. Как танец по кругу: рано или поздно ты возвращаешься в точку, с которой начал путь. Нет ничего нового. Все уже было. Все в мире – это повторение. Неповторимых событий не бывает. Все, что есть, – это давно забытое старое. Поэтому у них там в головах сплошной фатализм. У всех: у стоиков, неопифагорейцев, платоников…
Никита безучастно молчал – было неясно, слушает он или погружен в свои мысли. Петра невнимательность публики никогда не останавливала. Когда он садился на любимого конька, забывал об окружающем напрочь.
– А вот с пришествием христианства ситуация изменилась. Появилась историчность. Появилось конкретное историческое событие. Даже в Символе веры есть конкретная историческая ссылка: «Распятого при Понтийском Пилате». События Богоявления не предполагают повторения или движения по кругу. Но они предполагают конец истории – второе пришествие. Время стало линейным и превратилось в вектор, стрелу. Конец мира дал истории внутреннюю тягу, и ощущение, что все вот-вот закончится, существенно повлияло как на первых христиан, так и на старообрядцев. Весь мир представлялся им как арена противостояния Христа и Антихриста перед концом света. Вот-вот опустится занавес, и времени не станет как такового. Этим осознанием собственной конечности и завершенности мира и пропитаны произведения старообрядцев. Да, литургическое время, как и время вообще, у них хотя и циклично, и подчинено богослужебному кругу, но пронизано чувством скорого конца мира. Протопоп Аввакум из ссылки в ссылку служил, где придется и когда возможно… Для него каждый миг был священен, потому что миг этот мог стать последним, и он предстал бы пред Божьим судом. В таинствах верующие попадали именно в то время, когда они, таинства, в первый раз были осуществлены. То есть в священный исторический момент, который имел место две тысячи лет назад. Обращение к моменту застывшего в веках времени! Как у Платона: «Время – это подобие движущейся вечности». Остановленное мгновение есть обряд, за сохранение которого старообрядцы и отдавали жизни.
Петр остановился перевести дух. Никита достал сигарету, закурил, искоса глянув на увлекшегося собеседника. Жадно затянулся, чуть расправил плечи, будто после длинного перехода сбросил тяжелый рюкзак. Докурил до фильтра, прикурил следующую.
Ангельский образ богобоязненного семинариста таял на глазах.
Жажда знаний, как известно каждому студенту, прекрасно утолялась пивом. Так что следующим пунктом их маршрута стал ближайший продуктовый. Там они взяли «Балтику», пару калорийных булок и семечки. Платил Петр.
На университетской аллее они уселись на самой удобной и чистой скамейке и принялись за нехитрый ужин. Надеясь, что сытый семинарист окажется покладистее голодного, Петр зашел на второй круг:
– А все-таки как так вышло, что ты, старовер, оказался в богословском вузе никонианской церкви? Как твои родители к этому отнеслись? Я слышал, у вас строго с этим.
Во времени и пиве было дело или в чем-то другом, увиливать Никита не стал. Ответил ровно:
– Непросто, конечно, пришлось. Мать умерла давно, при родах. А батя… не сказать, что меня прям проклял, но недоволен был… Он думал, я в плотники пойду… а я в попы, да еще в щепотники… – Он запнулся и скомкал фразу. – Но потом помирились как-то.
– Мои соболезнования, – выдавил Петр.
–Ты про маму? Ничего. Меня бабка воспитывала, та тоже уже к Богу отошла.
Во второй раз с соболезнованиями Петр не полез.
– А сейчас ты как общаешься со знакомыми староверами? Они что насчет выбора профессии думают?
Никита пожал плечами.
– А не с кем общаться. И некому думать. Община была небольшая, после смерти последнего старца все разбежались, может, в город кто подался, к поповцам. Батя, возможно, общается с кем, но я насчет этого ничего не знаю.
– К поповцам? Постой, постой, – спохватился Петр. – А ты из какого согласия?
Лицо Никиты на миг стало наивным и беззащитным, как у зайца из «Ну, погоди». В голове Петра мелькнула мысль: наверное, это и есть его истинное лицо, без забрала подвижника и ревнителя благочестия. Простое лицо – деревенское, мальчишеское.
Никита потер переносицу.
– У нас незарегистрированная община была. Беспоповцы. Вели свое начало от Выговского общежития. Но насколько это точно, непонятно. Слишком давно дело было. Батя говорил, приехали из Перми в Калугу. В Пермской области община сложилась из беглых и солдатских вдов. До тридцатых годов жили там, потом пошли аресты, конфискации – и народ побежал.
Выговское поморское общежительство в Карелии было чуть ли не основным центром беспоповского старообрядчества на протяжении трех веков. И если изолированная община Никиты действительно происходила оттуда, его ценность как информанта кратно возрастала. Уникальная возможность заглянуть вглубь истории – такое и впрямь тянет на кандидатскую. Начиная с указа Наркомзема 1921 года «К сектантам и старообрядцам, живущим в России и за границей» до репрессий 1929 года у старообрядцев был «золотой век», что также согласовывалось с историческими знаниями Петра. А вот профессиональный выбор Никиты ни в какие рамки не укладывался, что-то было тут не так.
Петр глотнул пива, и хмельная горечь защипала язык. Надо попробовать зайти с другой стороны.
– Беспоповцы, значит… ага. Старообрядец-беспоповец учится на никонианского священника. Ты часом не коммунист? Для полного комплекта.
– Я понимаю твою иронию, – не повелся Никита, – но поверь, на то есть причины.
– Расскажешь?
– Может, и расскажу.
Петр шумно выдохнул.
– Ладно, проехали. Что ты там говорил про Калугу?
– Община туда перебралась. Я родился и вырос уже в Калужской области.
Перед мысленным взором Петра развернулся атлас автомобильных дорог СССР со знакомым контуром этой самой области. Не Сибирь – негде, даже близко, не спрятаться. Чтобы их общину при советской власти и оккупации не нашли или в покое оставили, верилось с трудом. Расстояние между деревнями – несколько километров, не больше. В Боровске, где была замучена боярыня Морозова, продолжала существовать поповская старообрядческая община, но Никита рассказывал о чем-то совершенно другом. Даже если в общине состояло человек сто, шила в мешке не утаишь.
– А где вы жили-то там? Прям в лесах скрывались?
Непостижимым образом Петр ухитрялся пить, жевать и говорить одновременно. Никита же рассказывал монотонно, подбирая слова, ухватив руками скамейку и совсем забыв, кажется, про семечки и пиво.
Стояла на юге области в глухой тиши небольшая деревня, в которой они и поселились. Про жизнь после революции и в военное время толком ничего известно не было. Конечно, о чем-то поговаривали, передавали из поколения в поколение – люди всегда обсуждают то, чего никто из них не видел. Раз правды никто не знает, значит, ее знают все. Но то были своего рода изустные предания, где быль и небыль настолько тесно переплелись, что уже невозможно было отделить одно от другого.
Община якобы существовала подпольно, не была зарегистрирована ни при царе, ни при советской власти. Объяснялось это прагматически: чтобы налогов безбожникам не платить. Жили землей, извозом, промыслами, пчеловодством. Продавали что-то на сторону или меняли. Человек двести с детьми и стариками. Все, кто мог работать, работали, Богу долг отдавали. Так и говорили: «Работа – свята, душа – богата». От каждого по-своему зависела жизнь общины: кто ткал, кто рыбу ловил, кто охотился, кто обувь тачал. Для всех. Все за всех были. Круговая порука объединяла людей не хуже цемента.
Военные и послевоенные годы были самые тяжелые. Как выразился Никита, «пой песни, да не тресни». Еды не было. Молитвой питались. Люди голодали, добавляли в муку толченую солому и сосновую кору да коренья какие-то, чтобы выжить. Боровские поповские старообрядцы знали о беглой общине и помогали кто чем мог. Выжили, конечно, не все. Много народу перемерло от голода и болезней. К врачам ходить не могли, официально работать – тоже, паспортов не было, да и не доверяли общинные никому. Скольких тогда Бог прибрал, никто не знает: записей не велось, все похороны – тайные, холмик-могилка и надпись на дощечке неразборчивая. Говорили, старец Филипп вел «синодики», списки имен умерших. Только списков этих в глаза никто не видел.
Филипп был единоличный глава общины. По словам Никиты, его безмерно уважали и даже побаивались. Перед внутренним взором Петра представал образ строгого высокого старика в холщовой рубахе, будто вырезанного из двухсотлетнего дуба. Раз в неделю все приходили к нему и исповедовались без утайки. Филипп давал наставления, решал конфликты, благословлял на брак, его слов для этого было достаточно.
– Поговаривали, – шептал Никита, – что, когда кто-то в общине стал ему перечить, старец сказал пару слов, и охальник больше рта не раскрывал до конца жизни: язык отнялся. Только мычал, горемыка. Все об этом знали, все помнили.
Семья Никиты жила в пятистенной избе с земляным полом, спали все вместе в одной горнице. Вставали ни свет ни заря – и все время были чем-то заняты. Весь день был расписан по минутам. То душеспасительные книги читали, то снасти чинили, то по хозяйству прибирались. Никиту, как ходить начал, стали приучать к посильной работе. К шести он уже помогал в огороде, возил из лесу дерн, а с берега глину, доил коров, сгребал сено, ездил за водой на реку, кормил скотину. Время на игры и баловство было тоже, но совсем немного. Детей воспринимали как взрослых, как со взрослых и спрашивали – и иногда жестоко били за провинности.
– Сидишь, бывало, в углу избы, дышать боишься. Жизнь тяжелая была.
Когда недужный дед совсем слег, а вскоре и отошел к Богу, Никитин отец стал главой семьи, и работы лишь прибавилось.
Слушая Никиту, Петр вспоминал свое вольное детство на бабушкиной даче, когда он являлся домой только поесть и поспать. Мог проваляться в постели до обеда. А самым страшным наказанием было оставаться на участке полоть грядки или собирать смородину. День-деньской он проводил в лесу с друзьями. Ребята играли, строили шалаши, пекли картошку – и были сами себе хозяева. Никто работать не заставлял. Как же эта жизнь отличалась от той, что описывал ему новый знакомый!
На вопрос про отношение властей к общине Никита дал странный ответ. Отношение к ней… менялось. Со временем. Власти то устраивали гонения, то делали вид, что староверов вообще не существует, то обращались к ним за помощью. Порой казалось, что невидимая сила оберегает староверов от преследований. Преподобный Лаврентий Ветковский, великий послераскольный подвижник, например, в день Архангела Михаила чудесным способом отвел глаза карательному отряду. Он вышел к большому дубу, встал и принялся под ним молиться. Солдаты его не увидели. Подобного рода чудеса постоянно происходили и в их общине, по крайней мере, пока старец Филипп был жив. Вроде чуть ли не вплотную энкавэдэшники и подобные им преследователи к людям и деревне подходят, а ничего не видят. Архангел глаза отводит.
Петр знал эту историю. И что преподобный Лаврентий молился под дубом, а не под небом или перед иконой, отмечал и ранее. В этом ему виделись отголоски чего-то более древнего, чем древлеправославная вера. А Никита, похоже, искренне верил в правдивость житийной истории.
«Наивняк», – усмехнулся про себя Петр.
– Говорят, кто-то пригласил нашу общину под Калугу, – вернулся Никита к материям более прозаическим. – Может, поповцы. Позвали не просто так. Народ у нас был честный, крепкий, работящий. Алкоголь и табак под запретом. Как говорится, всякое бремя с маково семя было. Идеальные работники. Знай себе молятся да работают.
Веками гонимые люди умели выживать. Поднимали экономику края, животноводство. После войны везде была разруха, рук не хватало. И советская власть соглашалась мириться со старообрядцами. Сложилась договоренность: вы работаете, а мы вас не трогаем.
– Как в том анекдоте: вы им монахов на субботник, а они вам пионеров в церковный хор, – хохотнул Петр. – Так?
– Не было у нас монахов. Разве что старец Филипп, – насупился Никита.
– А глава общины, – поинтересовался Петр, раз уж разговор вернулся обратно к старцу, – он один был?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.