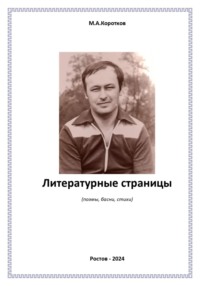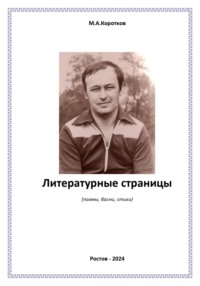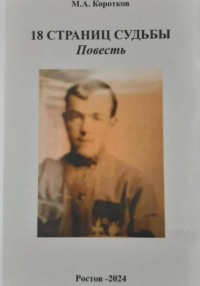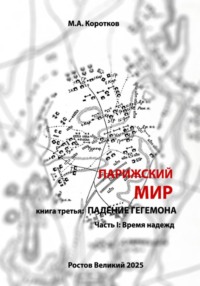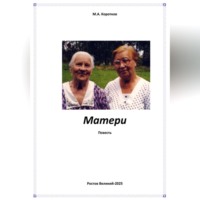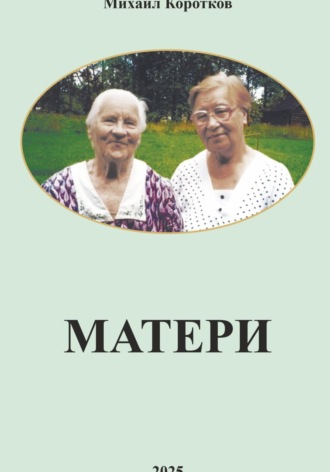
Полная версия
Матери
И вот, много лет спустя, придя однажды сюда по какой-то надобности, я увидел на стенде фотографию послевоенного персонала, и на ней свою маму.
Эмилия: «Больничка была очень уютная, я её любила. Сотрудники были очень дружные, часто выходили на субботники для её благоустройства. Построена она в 1908 году, как земская, для жителей села. На её строительство собирали сами жители, купцы, богатые крестьяне. По их ходатайству царь также выделил 1000 рублей, в связи с чем больница поначалу называлась в его честь – Александровская 1 . Парк вокруг нее – рукотворный, посаженный специально. Деревянный дом рядом (где жила Варя) построен для сотрудников больницы – там жили врачи и медсестры. У больницы имелось большое подсобное хозяйство по тем временам: я помню лошадь, свиней, 2-х коров, большой огород и картофельное поле (всё для больных)».
Как жила мама в новой обстановке, наверное, с высокой долей вероятности следует предположить. Это был приблизительно 1950 год. Молодежь в то время развлекалась вокруг сельского клуба: играл баян – под него пели, танцевали. Иногда в клуб привозили кино, и об этом знало все село, так как заводился бензоэлектрический агрегат, который подавал электричество. Данный агрегат (он стоял на цокольном этаже клуба) включался на небольшое время и в вечерние часы – тогда в близлежащих домах появлялся свет. Будучи ребенком, я застал это время: как только наступали сумерки – сначала в районе клуба раздавалось характерное тарахтение, затем в доме загоралась лампочка.
Своего будущего мужа мама встретила не сразу. Папа был баянистом, в силу этого «купался в женском внимании», к тому же у него была девушка (Капитонова Лида), которая через некоторое время (после окончания учебного заведения) по распределению уехала в Омск. Папино сердце с этого момента «освободилось» и он обратил внимание на маму. То, что это произошло при наличии большого женского внимания, говорит о том, что мама действительно была очень привлекательной девушкой. Так завязалась их дружба. Папа в это время учился в Ярославском музыкальном училище имени Собинова.
В 1951 году мама проводила папу в армию и дождалась его.
Папа служил хорошо, и привез из армии похвальные грамоты, которыми очень гордился:
Похвальный лист: Младший сержант Коротков Александр Михайлович.
За успехи в боевой и политической учёбе и безупречную службу в рядах Советской Армии награждаю Вас настоящим похвальным листом, выражаю уверенность, что Вы и впредь будете служить примером добросовестного исполнения своего патриотического долга перед нашей великой Родиной – Союзом Советских Социалистических Республик.
Командир части 31666 подполковник /подпись/ Ивашутин
Грамота: Младшему сержанту Короткову А.М.
За достигнутые творческие успехи и высококачественное исполнение репертуара художественный самодеятельности награждаю Вас настоящей грамотой.
Командующий войсками военного округа
гвардии генерал-полковник /подпись/ Шумилов
29 апреля 1952 года
В 1953 году, вернувшись из армии, он завершил обучение в муз. училище, и они с мамой поженились, а через год (15 октября 1954 года) на свет появился я, в вышеуказанной больнице.
Еще из армии папа привез очень красивый телеграфный ключ, на лакированной деревянной подставке, и, когда я немного подрос, подарил его мне. Этот ключ и рассказы отца о его службе радиотелеграфистом сыграли в моей судьбе значительную роль. В итоге, я тоже стал радиотелеграфистом, офицером, и большая часть моей жизни оказалась связанной с армией.
Мои младенческие воспоминания об этом периоде жизни не велики. Их сохранилось всего два.
Первое: я сижу на земле у завалинки деревянного дома и отколупываю кусочки глины, которой была обмазана пакля между бревен, и все это отправляю в рот.
Второе: в деревне Николе Березниках мои родители «гуляют» на чьей-то свадьбе, а мне, чтобы я их не беспокоил, дали миску с медом. Я съел весь мед. Не знаю, было ли мне после этого хорошо или плохо, но лет до 60-ти я мед на дух не переносил.
Теперь о перспективах, которые имела на тот момент молодая семья.
Получив, по окончании музыкального пед. училища, образование дирижера и баяниста, папа должен был его как-то реализовать, чтобы прокормить семью. Очевидно, что в селе такой возможности не просматривалось, поэтому молодые стали думать о переезде в город, на что и решились после моего рождения, где-то в 1955-1956 году.
Глава IV. Ростов
К моим воспоминаниям о Ростове относится, во-первых, то, что мы ютились по съемным квартирам. Видимо, мы сменили их немало, прежде, чем получили комнату в коммуналке. Мне запомнилась только одна из них, вернее, ее хозяин, высокий и худой горбун с морщинистым лицом. Папе он очень не нравился, и тот говорил про него много плохих слов, которые я не смогу сейчас воспроизвести. Моему же детскому воображению после таких слов (в совокупности с внешностью), хозяин квартиры представлялся буквально чертом в гриме. Насколько я мог тогда понять, все их размолвки с хозяином происходили из-за несвоевременной оплаты за квартиру. Видимо, в семье с деньгами было туго.
И вот, наконец, первая коммуналка. Это была комната на втором этаже студенческого общежития (от ростовского музыкального пед. училища) на Советской площади, дом 7. Папа работал на двух работах: в музыкальной школе и в пед. училище и, видимо, по этой причине нам выделили это жилье. Комнатка была очень маленькая, с одним окном и видом на площадь. Казалось бы, здорово, в праздники удобно смотреть парад и демонстрации, но нет – за неделю до каждого события перед нашим окном вывешивали плакат с портретом Ильича (на стене для этого имелись соответствующие крепления) и у нас наступала «полярная» ночь, которая длилась еще пару недель, пока плакат, наконец, не снимали. Поэтому, парады приходилось смотреть, как и все обыкновенные люди, на площади, сидя на плечах у отца. Судя по ощущениям, плакаты вешали и снимали раза четыре – значит, мы прожили в этой комнате приблизительно два года.
Затем, семье дали другую коммуналку, уже более комфортную, если так можно выразиться. Это была комната на два окна. У одного окна стояла моя кровать, а у другого – кроватка сестры, обтянутая сеткой, чтобы она оттуда не вылезала. Видимо это был год 1960-й, потому что сестра уже ходила по кроватке (ей был где-то годик) и показывала мне разные гримасы. Меня водили в садик, который располагался в двухэтажном здании на перекрестке улиц Окружная и Пролетарская, напротив пожарной части. В более поздние годы в этом здании располагалась вечерняя школа, а сейчас оно уже лет 5-7 стоит под ремонтом с непонятными перспективами. В садик меня водила бабушка Аня, папина мама. Где она размещалась у нас, в этой маленькой комнатке, я не представляю – разве что на раскладушке, которую ставили возле входной двери.
В этой комнате в нашу семью впервые пришла беда: я помню, как рыдала в голос мама, когда пришла телеграмма о смерти ее отца, что жил в деревне Юрьево. Он умер тихо во сне, уснул и не проснулся. Она ездила на похороны и вернулась оттуда вконец убитая – так нелегко ей давались такие переживания.
Была на похоронах и ее сестра Елена, но судьба уже готовила для нее новые страшные утраты: чуть позже, в этом же году, умрет ее свекровь, бабушка Эмма, и смерть уже присматривала себе новую жертву – старшую дочерь Елены – Нину.
Вспоминает Эмилия: «Второй мамин ребенок, сын Володя, в 1960-м году окончил 10 классов Вощажниковской школы и вместе с другом поехал в Мурманск, поступать в мореходку. В итоге, оба провалились (а может просто испугались), вернулись и поступили в проф. училище при полиграф. заводе в Рыбинске. После учебы Володя проработал на этом заводе всю свою жизнь, с перерывом на службу в армии. В период армейской службы, в отпуске, женился. Свадьба была в Рыбинске, только с родственниками. Со стороны жениха была только я, так как в это время была тоже в Рыбинске. Больше он никого не звал, и мама за это очень обижалась. После армии у них родилась дочка Света. К нам они приезжали очень редко, только на какие-то события. Володя умер в 2004 году от инфаркта, через год умерла его дочь от лейкемии. Жена ещё жива, скоро ей будет 86 лет, очень больная с молодости, она пережила всю свою родню».
Но вернемся снова в шестидесятые. «Хрущёвская оттепель» сменившая сталинизм, дала надежду узнать что-то о судьбе репрессированного Отто Адамовича Мезиса.
Вспоминает Эмилия: «Когда мой отец со своей сестрой поехали на процесс по реабилитации, то спросили про могилу. Там удивились: о какой могиле идет речь? Там расстрельные процессы шли каждый день, и в общую могилу закапывали всех, потом трактором заравнивали».
К периоду шестидесятых годов следует отнести не только утраты, но и хорошие вести. У маминой сестры Шуры нашелся муж Анатолий. В войну он попал в плен и был узником Бухенвальда. Какой-то немецкий барон взял его в работники, этим и спас. После освобождения его долго держали в проверочном лагере, и там предложили поработать на урановых рудниках в Узбекистане. Домой он не писал и объявился только в 1956 году, в праздник Смоленской божьей матери. Сестра мамы Шура после этого уехала с ним. Там в Ленинабаде она работала учительницей, а муж ее, Анатолий, в шахте электриком. Вернулись на родину они уже пенсионерами и купили домик в Ярославле, за Волгой.
Вспоминает Эмилия: «Дядя Толя был очень живучий, все, с кем он поехал на шахту в Узбекистан, умерли, а он ещё долго жил, пережил и жену свою, Шуру.
У Шуры перед войной, с небольшим интервалом, родились две девочки: Ирина и Люся. Они остались с бабушкой и дедушкой в деревне. Ирина вышла замуж и жила в деревне Пески Некрасовского района, Люся – в какой-то другой деревне. В Песках я у неё гостила, там почти под окнами течёт Волга. Красота! Пожалуй, у всех детей Нестеровых была тяжёлая жизнь, кроме, разве что, Марии (но у нее муж был пьяницей) да Федора – он спокойно прожил в Ярославле всю свою жизнь (от войны у него была бронь). Младшему брату Василию не повезло с детьми: девочка Леночка родилась недоразвитая, училась в спец. школе, затем её устроили на фабрику. Мальчик родился нормальным, но его, недолго думая, тоже отправили в ту же школу».
Где-то в 1960 году начались проблемы и у моей мамы. Она только что (в 1959 году) родила мою сестренку Наташу, и, казалось бы, все было хорошо, но тут пришла беда от папы. Он как баянист, да еще работающий на двух музыкальных работах, постоянно был в центре различных тусовок. Концерты и особенно свадьбы, часто сопровождались и заканчивались выпивкой, особенно для баяниста. Какая же свадьба без баяна? А баянисту, по неписаному правилу, полагалось налить – так он постепенно пристрастился к алкоголю. Вначале это было не так заметно. Дело в том, что в нашей коммуналке, кроме нас, проживала тогда вся музыкальная элита города: директор музыкальной школы, в которой работал отец (Дмитрий Румянцев), известный впоследствии дирижер Сергеев (именем которого ныне назван городской симфонический оркестр) и другие музыкальные работники. И папа в кругу их внимания держался, не позволяя себе выпить лишнего. Но уже тогда начались его первые ссоры с мамой, они еще не носили какого-то непримиримого характера. Помню, поссорившись с матерью, отец забрал меня у нее, и отвел к брату Аркадию, который жил в то время в Ростове на улице Ленинской, в помещении церкви Покрова Святой Богородицы, под самым куполом. Это место я запомнил, уж больно оно было диковинное. Ссора была не долгой, и вскоре я вернулся домой.
В двухтысячные годы РПЦ получила в собственность эту церковь. Сам Аркадий в тот период был уже стар, и доживал свой век в родительском доме, в селе Вощажниково. Но в паспорте у него сохранилась прописка, и я пытался решать вопрос с компенсацией ему за утрату жилья. Действительно, после нашего запроса, в качестве компенсации ему была предложена квартира в деревянном доме без удобств, что не соответствовало существующим на тот момент нормам. Требовалось судиться, а я в качестве истца (по доверенности от него) выступать не мог, поскольку ответчиком в суде был мой работодатель (я работал в администрации муниципального округа). Требовалось заниматься этим процессом серьезно, и папа пытался получить от брата доверенность на действия по этому иску. Но Аркадий находился уже в таком состоянии души, когда ему ничего было не надо – и он доверенности не дал. Так и закончилась эта история ничем, а могла бы закончиться благоустроенной квартирой.
Что еще мне запомнилось из жизни в «музыкальной» коммуналке. Помню, как мне доводилось отводить сестру в ясли. Когда бабушка у нас не жила (а такое случалось довольно часто), отводить Наташу в ясли доверяли мне, тем более, что ясли находились напротив (через дорогу) – в Новодевичьем Рождественском монастыре. Стены этого монастыря нависали над нашими окнами, потому что разделяющая нас дорога была маленькой и больше походила на тропинку (грунтовая и мощеная булыжником). Поэтому такая задача не доставляла мне каких-то неудобств. Делал я это до того, как сам отправлялся в садик. Папе и маме надо было на работу, а бабушка Аня не могла жить с нами постоянно.
О том, как папа и мама работали, имеется много материалов: это грамоты, благодарственные письма, поздравительные адреса. Если сравнивать папу и маму по объему достижений, то количественно их больше у мамы. Приведу некоторые из них:
Грамота: Ростовский горком общества Красного Креста награждает Короткову Варвару Михайловну, фельдшера средней школы № 2 настоящей грамотой за активное участие в подготовке и проведении Дня здоровья.
Председатель комитета общества Красного Креста, подпись
14 июня 1972 года
Почётная грамота: Награждается Короткова Варвара Михайловна за долголетний безупречный труд в органах здравоохранения и в связи с 55-летием.
Главный врач ЦРБ Валов
Председатель мед. комиссии Кротков
Секретарь парт. организации Зайцев
04.03.82 года
Почётная грамота: Исполком Ростовского городского совета депутатов трудящихся награждает почётной грамотой Короткову Варвару Михайловну за хорошую работу, и в связи с Днём медицинского работника.
Исполком городского совета депутатов трудящихся
18 июня 1973 года
Почётная грамота: Почётной грамотой награждается Короткова Варвара Михайловна за хорошую подготовку звена санитарных дружинниц, занявших второе место на областном финале военно-спортивной игры Орлёнок-82.
Председатель обкома Красного Креста /подпись/ Заярная
Почётная грамота: Отдел народного образования Ростовского горисполкома награждает Короткову Варвару Михайловну за многолетний плодотворный труд по воспитанию подрастающего поколения.
12 марта 1982 года, город Ростов
Грамота: Награждается врач средней школы № 2 Короткова Варвара Михайловна за большую работу по медицинской пропаганде и подготовке Дня здоровья в школе.
17 июня 1971 года, город Ростов
Почётная грамота: Коротковой Варваре Михайловне за хорошую работу среди учащихся средней школы № 2 в 1985-1986 учебном году.
Главный врач Валов
Председатель ГОРОНО Сметанина
28.06.1986 г.
Грамота: Ярославский обком Красного Креста награждает Короткову Варвару Михайловну настоящий грамотой за активное участие в работе общества Красного Креста
Председатель комитета общества /подпись/
Почётная грамота: Коротковой Варваре Михайловне за долголетний безупречный труд в органах здравоохранения и в честь пятидесятилетия.
Главный врач ЦРБ Колчин
Председатель медкомиссии Шамарин
16 февраля, 1977 года
Почётная грамота: Коротковой Варваре Михайловне за активное участие в проведении санитарно-оздоровительных мероприятий в городе.
Город Ростов Ярославский, июль 1966 года
Исполком городского совета
Работа мамы была видна не только на районном, но и на областном уровне. Помимо поощрений, приведенных выше, в семейном архиве имеется фотография областного мероприятия медицинских работников, которое состоялось в Ярославле 01.12.1990 года.
Мама действительно очень много и с душой работала с детьми, являясь школьным фельдшером. И память о ней (настоящую, а не показную) хранят обычные люди, ее ученики и ученицы, которым она привила любовь к профессии медика. Например, когда приходится обращаться в поликлинику по болезни, часто встречаю там женщину-врача, которая до сих пор помнит мою маму. В школьные годы этой девочки, мама работала в ее школе (СШ № 2) фельдшером, и все девочки ее очень любили. Мама была доброй и отзывчивой, такой же, какой она была в семье. Может быть, ее пример и помог этой девочке стать врачом. Косвенными свидетельствами высокого авторитета нашей мамы являются еще два факта, которые случились нечаянно, и мы в свое время не придали им должного значения, но я приведу их здесь:
1.Когда маме (в последние годы ее жизни) потребовалось сделать протез зубов, я обратился за помощью к главе района (Пойкалайнену В.И.). Он когда- то был директором школы и работал с мамой. Все было сделано быстро и бесплатно.
2.Когда мама умерла, мы провожали ее своей семьей, и похоронили на сельском кладбище в селе Вощажниково, где она провела самые светлые годы своей жизни. Мама долгие годы была на пенсии и не работала, и мы полагали, что едва ли стоит привлекать к похоронам широкую общественность. Каково же было наше удивление, когда впоследствии звонили ее коллеги по работе и выражали горечь и негодование по поводу того, что не были оповещены.
Вот так, порой, о человеке узнаешь больше не при жизни, а после смерти. Прости нас мама за это. Не ведаем, что творим!
Но вернемся снова к жизни. К жизни в Ростове.
Письмо мамы сестре Елене 18.02.1961:
«Здравствуй Леночка!
Спасибо за поздравление! Было очень приятно получить от вас с Николаем весточку в этот день. Наконец-то мы дождались 2-х комнатной квартиры и переехали из коммуналки, и надо бы радоваться, но радости нет – Саша опять запил. Уже вторую неделю он каждый день пьяный. Не представляю, как он ходит на работу после такого. Я, конечно, держусь, стараюсь его не провоцировать, но он сам начинает приставать и доводит, все равно, до скандала. Жалко детей, они страдают, глядя на это. Приходят разные мысли. Вот трезвый он хороший человек: и заботливый и внимательный и за домом смотрит. А как выпьет – делается дураком: тупым и упрямым. Говорила с ним, чтобы как-то полечиться. Но он ни в какую – говорит: «Все под контролем». Под каким-таким контролем, если человек спивается на глазах? Вот, все тебе рассказываю о грустном. А поверь, радоваться тут нечему.
Мишу решила в школу в этом году не отдавать, пусть еще годик посидит дома, пойдет на следующий год – все будет постарше. Понемногу откладываю деньги на пианино. Саша как-то, по трезвости, предложил, чтобы после второго класса отдать Мишу в музыкальную школу. Только надо еще до этого второго класса дожить, а с таким папой – это проблема.
С Наташей все в порядке, простуда прошла, и со вчерашнего дня ходит в садик.
На это писать заканчиваю. Вам с Колей, Ниночке и Милечке – огромный привет и пожелания добра! А Володе – легкой службы!
Ваша Варя.
П.С. От Саши большой привет. На Пасху он собирается к матери, зайдет и к вам».
Запись в дневнике Елены 25.02.1961:
«Подменить Нину на дежурстве 27-го (Борисоглеб);
Как приедет, поговорить с Сашей (сказать, что думаю про него);
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.