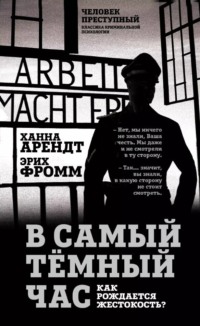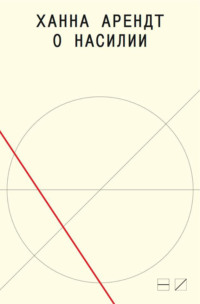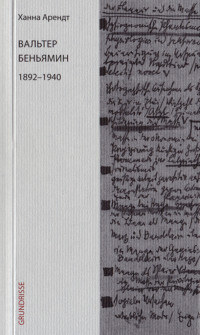Полная версия
Опыты понимания, 1930–1954. Становление, изгнание и тоталитаризм
Между этими двумя работами длинный вдумчивый обзор «Идеологии и утопии» Карла Мангейма затрагивает несколько иное отношение, а именно сознания или духа (Geist) к миру и времени – фундаментально важная тема для Арендт, по которой она многократно высказывалась до конца своей жизни. В эссе со всей серьезностью рассматривается мангеймовское понятие «экзистенциальной ограниченности» всей мысли, включая философскую или созерцательную, в попытке обнаружить ее источник в «бездомности» современного человека. Такая бездомность рассматривается Арендт как условие социально-экономической «реальности» и в противопоставлении собственной «уединенности» созерцательной мысли, которая является «подлинной возможностью человеческой жизни». Хайдеггер и Ясперс появляются здесь (как и часто в этом томе) в качестве наиболее выдающихся представителей современной философии и, в частности, ясперсовское понятие трансцендентности в человеческом существовании (а не идеологического или утопического бегства от реальности) наглядно предстает в примере со святым Франциском Ассизским. Это эссе также содержит первую ясную формулировку причин того, что Арендт всегда отвергала психоанализ в качестве теории и практики.
Следующие два эссе этого периода являются результатом работы Арендт над биографией Рахель Фарнхаген. Они опубликованы здесь для того, чтобы привлечь внимание к этому уникальному исследованию жизни поразительной женщины, которым незаслуженно пренебрегают как многие исследователи Арендт, так и читатели. (Исключением здесь является книга Дагмар Барноу «Видимые пространства: Ханна Арендт и опыт немецких евреев»; в главе «Общество, выскочка и пария: история жизни немецкой еврейки» дается очень эрудированное и проницательное истолкование написанной Арендт биографии Рахель). Взятые вместе, они показывают первое и практически осязаемое столкновение Арендт с тем, что впоследствии станет для нее важнейшим различием между публичной и частной сферами опыта, различием, которое будет характеризовать и наполнять, если не определять, ее политическую мысль в зрелости; а также с тем, что для нее стало пагубным соединением публичных и частных по своей сути вещей в сфере социального.
Эссе, опубликованное к столетию со дня смерти писателя и государственного деятеля Фридриха фон Генца выдвигает на первый план этого самого земного из людей – суетного, гедонистичного, беспринципного, признающего только силу и ищущего только «реального», причем он сыграл определенную – даже важную – роль в жизни Рахель. Когда Арендт писала эту работу, Гентц был, по ее словам, практически «забыт» (биографии Пола Свита и Голоу Манна не были опубликованы до 1940-х гг. Отношение Арендт к Генцу, соединяющему собой Просвещение и период романтизма (которые в Германии не столь обособлены, в культурном или историческом плане, как, к примеру, во Франции), амбивалентно, как и карьера Генца была «неоднозначной». В одних отношениях он был консерватором, а в других либералом; он был сторонником абсолютизма, верившим, что сам принцип легитимности исторически относителен; и он был романтиком, более всего желавшим, чтобы мир не менялся. Но он знал и мог принять то, что мир меняется и что все, что он старался сохранить, будет потеряно. Не принцип или мотив, но знание дел и хода мировых событий наделяли его местом в мире. Именно из-за такой точки зрения наблюдателя, своего «включенного знания» духа века и его секретов – своим намного более земным образом он разделял идеал Mitwisserschaft[33] старого Фридриха Шлегеля – он нашел свое политическое кредо в строчках древнеримского поэта Лукана Victrix causa deis placuit, sed victa Catoni («Дело победителей было угодно богам, но дело побежденных – Катону»), которыми Арендт заканчивает свое эссе. Но поскольку она, вероятно, не разделяла в это время двусмысленной политической позиции Генца[34], цитируя этот стих, она не дает никакого намека на смысл, который он будет иметь для нее позднее. Напротив, здесь почти кажется, что он означает, будто Генц предпочитал дело побежденных потому, что оно было проиграно. Но 24 июля 1954 г. в письме к Ясперсу она называет эти строки выражением «духа республиканизма», и еще позднее они в краткой форме выражали для нее саму сущность политического суждения.
Стоит отметить, что всего десять лет спустя после публикации этого раннего эссе, в краткой благожелательной рецензии (не включенной в этот сборник) на биографию Свита «Фридрих фон Генц: защитник старого порядка», Арендт выделяет Генца из компании Талейрана, Кестлри, Каннига и Меттерниха, каждый из которых служил своим соответствующим «национальным» интересам, как защитника «интереса Европы». Там она характеризует его главным образом как героя эпохи Просвещения, который сопротивлялся ее «деградации… в шовинизм» и «основывал совершенно независимую и бескорыстную политику на несуществовании германской нации». В 1942 г., в разгар Второй мировой войны, она хвалила «странную и восхитительную своевременность» книги Свита и находила «вопрос европейского единства» одной из «наиболее важных задач» времени. Политическая мысль Генца (студента Канта), после того как она была «почти потеряна в национализме XIX века», рассматривается ею как «предмет нашего особого внимания». Сегодня, более шестидесяти лет спустя, эта «задача» и это «внимание» кажутся особенно своевременными. Рецензия Арендт, озаглавленная «Веровавший в европейское единство»[35], была ее первой опубликованной работой на английском.
Что касается Генца и Рахель Фарнхаген, она одна, среди множества его возлюбленных, понимала его, и они оба знали это. Она понимала, что его отношение к миру лишь казалось лицемерным другим, тогда как на самом деле он открывался миру наивно, как ребенок. Арендт говорит о возможности – если бы их любовь завершилась (чего не произошло) – возникновения другого «мира», «противостоящего реальному миру», мира, который изолировал бы Генца от той реальности, которой он жаждал. В «своей частной жизни он зависел от ее понимания», но не был готов пожертвовать «своей наивностью, своей чистой совестью, своим положением в мире – короче говоря, всем» для этого[36]. Различие между пониманием в частной сфере и появлением на публике не могло бы быть проведено более резко, или более конкретно.
Именно сила воображения Арендт объясняет жуткую оригинальность ее портрета Рахель, крайне непохожего на обычный, первоначально изобретенный после ее смерти ее мужем-неевреем Карлом-Августом Фарнхагеном и затем увековеченный остальными[37]. Амбивалентность отношения Арендт к Рахель еще глубже, чем к Генцу. Конечно, это в некотором отношении связано с тем фактом, что Арендт была еврейкой и женщиной, как и Рахель, но она не пыталась понять свое собственное политическое положение в 1930-е гг. через жизнь Рахель или ее опыт в «обществе» более ста лет назад; она скорее пыталась добиться понимания «еврейского вопроса», его места в истории и культуре Германии, рассматривая его в уникальном видении Рахель.
«Берлинский салон» посвящен необычному, но недолговечному социальному явлению, выросшему из идеалов германского Просвещения, проявившемуся в полном романтическом цветении в мансарде Рахель, и внезапно прекратившему существование, когда его «социальная нейтральность» была сокрушена событиями в реальном мире. Он «затонул как корабль», как сказала Рахель, как если бы был разрушен наполеоновскими пушками. Между Лигой добродетели (с ее концепцией равенства, основанного на доброте), которая предшествовала ему и крайне селективным, буржуазным Столовым обществом, которое за ним последовало, салон Рахели был воплощением романтической «неблагоразумности». Именно эта неблагоразумность, разновидность богемности, необычная и какая угодно, но только не буржуазная, разрушала различие между публичным и частным, принимая всерьез интересное человеческое существо как таковое – будь то женщина, князь, государственный деятель, еврей или кто-либо еще, – и интерес представляла сама жизнь (к примеру, счастье или несчастье), а не лицо, не «носитель» этой жизни. Так что это не место личности в мире рекомендовало ее Рахель, а, наоборот, такая вещь, как способность страдать «более чем кто-либо, кого я когда-либо знала». Сама Рахель воплощала отсутствие осмотрительности, поскольку ее жизнью руководило стремление избежать «несчастья» ее рождения – бытия еврейкой, – став «подобной» (ассимилированной) любой другой «воспитанной личности». Ее салон мог создавать для нее иллюзию такой ассимиляции, но это была ложная мечта о равенстве; время, «когда мы все были вместе», исчезло как мираж, когда она писала об этом Паулине Визель в 1818 г. В интимности любви понимание Рахелью Генца могло заслонять, даже заменять реальность, но оно никогда не могло заставить ее примириться с миром, в котором ее дискриминировали как еврейку. Это была та же интимность, ради которой Генц отказался пожертвовать очарованием мира, который вызывал у него такое восхищение во всех его проявлениях.
Арендт была поражена блестящим умом Рахель, ее огромной способностью к любви и ее пониманием других, вырастающим из этой способности, а также ее чудесной, неразборчивой открытости жизни. Но Арендт обнаружила, на своем собственном опыте политического антисемитизма – в отличие от социальной дискриминации, – что быть евреем – это на самом деле политический, публичный факт. Было неважно, придерживается ли она религиозных представлений или обладает еврейскими «характеристиками», или то, что при иных обстоятельствах ее блестящий ум и иная одаренность сделали бы ее «исключением» в глазах общества. Политически тот факт, что в глазах мира она представала как еврейка, значил намного больше, чем такие соображения, и утверждать иное было бы «гротескным и опасным бегством от реальности». Благодаря этому открытию она поняла, что только реальное, неиллюзорное равенство связано с политической свободой; что условием политической свободы является обладание местом, не в салоне, но в мире; и что единственный способ обрести место в мире – это потребовать его, заявив: да, я – то, чем я кажусь, я еврейка. В 1933 г. Арендт начала работать в сионистской организации Германии, хотя она лично не была сионисткой; эта работа привела к ее аресту. Это было трудное и рискованное дело, требующее мужества (среди многого прочего это объясняет ее четкие и ясные призывы к формированию еврейской армии в ходе Второй мировой войны) и, вероятно, не будет чрезмерным сказать, что без этого опыта она не смогла бы развить свою концепцию действия.
«Об эмансипации женщин» – единственный текст Арендт, посвященный женскому вопросу (возможно, достаточная причина, чтобы включить его в этот сборник), хотя она ссылалась на современные дебаты в германском женском движении в своей биографии Рахель Фарнхаген. Арендт утверждает, что смешение социальных целей с политическими никогда не позволит раскрыть специфическую сложность жизненной ситуации женщины, что, возможно, есть первый намек на тот род критики, которой она подвергнет марксистскую мысль. Алис Герштель, автор книги, которой посвящена рецензия Арендт, и ее муж, Отто Рийхле, были видными деятелями радикальных политических движений в Германии. Герштель была также близка с Миленой Есенской, другом и товарищем по переписке Арендт, что создает прекрасную, хотя и случайную, связь со следующим эссе «Франц Кафка: переоценка».
Одиннадцатилетний разрыв, отделяющий последнюю работу, написанную Арендт в Германии в 1933 г. от эссе о Кафке может показаться удивительным. Из интервью Гауса понятно, что Арендт, покинув Германию, испытывала отвращение к интеллектуалам и интеллектуальной жизни, а также ясно, что в качестве беженца без гражданства у нее были серьезные практические трудности. В Париже она работала на Молодежную алию, подготавливая еврейских детей к эмиграции в Палестину, куда она сопровождала одну из групп в 1935 г. Но она не полностью отстранилась от интеллектуальной жизни Парижа. Она посещала некоторые из знаменитых семинаров Александра Кожева о Гегеле, где впервые встретила философов Жана-Поля Сартра и Александра Койре (она считала Койре намного более проницательным интерпретатором Гегеля, чем Кожев); она подружилась с Раймоном Ароном и была очень близка с Вальтером Беньямином[38]. Немногие сохранившиеся от этого периода эссе Арендт касаются еврейского вопроса и включены в том, содержащий работы Арендт по еврейской проблематике, упомянутый выше.
Намного большая часть эссе, последовавших за посвященным Кафке, так или иначе касаются Второй мировой войны и многочисленных феноменов, связанных с тоталитаризмом. Даже кажущиеся исключения – такие, как работы о Дильтее, Дьюи, Брохе, Ясперсе и Хайдеггере; эссе, рассматривающие философские вопросы, в особенности немецкую и французскую экзистенциалистскую мысль и политическую философию в целом; и посвященные множеству вопросов, связанных с религией – написаны с той точки зрения, про которую можно безошибочно сказать, что она сформирована пониманием Арендт того, чем были для нее беспрецедентные политические события двадцатого века. Сама переоценка Кафки осуществлена именно с такой точки зрения: он рассматривается не как «пророк», предсказавший будущее, а как проницательный аналитик «фундаментальных структур» «несвободы» своего времени, которое создало то, что Арендт называла «проектами» социализированного человечества, бюрократического общества, управляемого сверхчеловеком, в противоположность человеческим законам. Для Арендт показателем гениальности Кафки была его способность постигать структуры «подземного потока истории Запада»[39], когда они были все еще скрыты для большинства. С другой стороны, его «образ… человека как модели доброй воли», «всех и каждого», желающих быть свободными, напоминает о том «доверии к людям», о котором Арендт говорит в конце интервью с Гаусом, доверие «к человеческому всех людей».
Арендт считала, что политическая мысль в XX в. должна порвать со своей собственной традицией так же радикально, как систематические массовые убийства, осуществленные тоталитарными режимами, порвали с традиционным пониманием политического действия. Ранний и наглядный пример ее собственного мышления можно видеть в различии, которое она проводит между «организованной виной» и «всеобщей ответственностью». Именно Арендт, еврейка, в последние дни войны высказывалась против ванситтартизма; она не считала, что немецкий народ обладает «монополией вины» за бесчеловечные преступления расистской идеологии. Не немецкий народ, а эта идеология сделала все возможное, чтобы уничтожить германскую культуру и человечность. Ее предвидение того, что зло станет «фундаментальным вопросом» в послевоенном мире, объясняет ее признание необходимости примирения народов и нового начала. Зло стало явным как инверсия векового основания западной морали – «Не убий!» – и менее абстрактно понималось как «чудовищность», «бесчеловечность» создания «абсолютно невинных» жертв для демонстрации хода так называемых законов природы и истории. Связь «чудовищности» и «бесчеловечности» с «невинностью» кажется весьма странной до тех пор, пока не понята совершенная новизна тоталитаризма как формы правления. Это понимание трудно, и теоретическим достижением первого порядка для Арендт было обосновать добавление новой формы правления к списку, начатому Платоном и Аристотелем и едва ли изменившемуся со времен античности.
Это никоим образом не только вопрос теории. Тоталитаризм – его угроза человечеству – представляет собой такую опасность, что Арендт не перестает предупреждать нас о политических условиях и ментальных установках, из которых он вырастает. Так, она обращает внимание на то, что в основе сталинского насилия лежала не столько идея, что «не разбив яиц, омлет не приготовишь», – сколько идея действия как фабрикации – в смысле делания истории. «Экс-коммунистов» от «бывших» коммунистов отличает фундаментально тоталитарный способ мышления, нетерпение по отношению к «основным неопределенностям» действия и идеологическая вера в «конец» истории. Она бескомпромиссно критична по отношению к светскому буржуазному обществу, его убийственной конвенциональности и указывает на его тенденцию лишать человека спонтанности и превращать его в «функцию общества». Испытывая симпатию к неокатолическим критикам буржуазных «морали и стандартов», таким как Г. К. Честертон и Шарль Пеги, она не выносила католиков или кого угодно, кто стремился бежать от реальности, прячась за «определенностью» прошлых истин.
Если нельзя убежать ни в «еще не», ни в «уже не», если нить традиционной западной мысли определенно перерезана, то даже величайшая философия истории не может повлиять на примирение между людьми и миром, в котором они живут. Гегелевская концепция Истории, его объяснение дел человеческих и хода событий как «диалектического движения к свободе», стала нереалистичной – не философски нереалистичной (что бы это ни означало), но страдающей от нехватки «чувства реальности», будучи взвешенной на весах с политическими событиями двадцатого века. Значимы не эти события, мыслимые абстрактно, к примеру, как знаки обреченности, – но их реальный вес и тяжесть в человеческом опыте. К концу этого тома Арендт рассматривает политическую философию как способную, в полную противоположность философии истории, к новому началу. В течение десятилетий мыслители думали, а писатели писали, что «кризис западной цивилизации» близок, и наконец этот кризис смог увидеть каждый – в тоталитарных режимах, в огромных фабриках, производящих трупы, – на земле, общей для всех людей. Не иная политическая философия стала нужна для объяснения этого, но новое понимание политики как таковой. Пусть ее серьезные исследования мысли Хайдеггера, Ясперса и других оказались неокончательными, в 1954 г. Арендт кажется убежденной в том, что впервые может оказаться возможным «прямо постичь сферу человеческих отношений и человеческих дел». Для того чтобы это сделать, потребуется действие, близкое к «бессловесному удивлению», несмотря на «бессловесный ужас перед тем, что может сделать человек». Эти слова не предвосхищают возвращения к традиционной философии; напротив, они являются призывом того, кто, хотя и не был никогда полностью дома в мире, тем не менее дерзал понимать и судить мир так долго, как продолжалось ее пребывание в нем. В четырех сильных строках из стихотворения, написанного в тот же год, что и последнее эссе этого сборника, Арендт изложила это так:
Ich lieb die Erdeso wie auf der Reiseden fremden Ortund anders nicht.[40]* * *Вскоре после неожиданной смерти Ханны Арендт в декабре 1975 г. ее близкий друг и один из душеприказчиков, Лотте Колер, попросила Ларри Мея и меня (мы оба несколько лет работали с Арендт в качестве ассистентов) помочь ей подготовить большое количество бумаг в квартире Арендт на Риверсайд-драйв для отправки в Библиотеку Конгресса. Было непривычно проводить там день за днем, неделю за неделей, а потом и месяц за месяцем (работа не была закончена вплоть до лета 1977 г.) без Арендт. К грусти этого времени добавлялось ощущение открытия. Почти каждый день мы находили совершенно неожиданные документы и обсуждали их за прекрасными немецкими обедами, которые готовила Лотте Колер.
Мэри Маккарти, литературный душеприказчик Арендт, присоединялась к нам, когда бывала в городе. Хотя по складу своего ума эта замечательная женщина во многом отличалась от Арендт, острота ее прозрений была столь же поразительна. В это время я также вел длительные разговоры и переписку с американским философом Дж. Гленн Греем. Он обладал глубоким пониманием мысли Арендт в поздние годы ее жизни и считал, что она на много поколений, возможно, на век, опередила свое время. Вплоть до своей безвременной смерти в 1977 г. он был лучшим из проводников по интеллектуальному лабиринту текстов Арендт.
Элизабет Янг-Брюэль была среди первых, кто использовал бумаги Арендт. Она их внимательно изучала, работая над книгой «Ханна Арендт: во имя любви к миру», по-прежнему основным источником для познания истории жизни Арендт. С момента ее публикации в 1982 г. ее биография читалась многими, как исследователями, так и широкой публикой. Элизабет и я – друзья уже тридцать пять лет, с того дня, как мы встретились на семинаре Арендт. За это время много часов прошло в разговорах о ней; эти продолжающиеся беседы значат для меня больше, чем я могу высказать, и не в последнюю очередь в связи с работой по отбору и редактированию этих произведений.
Ларри Мей и я продолжили работать с Мэри Маккарти, которая взяла на себя труд по подготовке к публикации последних лекций Арендт «Жизнь ума». Редакторские стандарты Маккарти были очень высоки, и именно тогда, особенно отвечая на многие ее длинные письма, полные вопросов, я начал понимать что-то из того, что предусматривала редакторская работа по изданию работ Арендт. В это время я также познакомился с Уильямом Йовановичем, который одобрил первое издание этого тома в 1994 г. Его первый редактор, Алэйн Сальерно Мэйсон, демонстрировала большую преданность делу все время, что я работал с ней. Дэниэл Франк, шеф-редактор издательства Pantheon Books, заслуживает сердечных благодарностей всего растущего сообщества читателей Арендт за переиздание этого сборника.
Вдобавок к этому за прошедшие годы многие студенты, друзья и ученые помогали, возможно, и не зная об этом, пополнять подборку включенных в эту книгу эссе. Следует особо выделить трех исследователей: Ричарда Бернстайна, вместе с которым я имел удовольствие и пользу читать курс по работам Арендт; Маргарет Канован, с которой я познакомился по переписке благодаря Мэри Маккарти и чьи исследования подняли понимание политической мысли Арендт на прежде недостижимый уровень; и Урсулу Лудз, чья полная библиография, отличные немецкие издания работ Арендт и доброта помогали и поддерживали меня все время. Эйприл Флакне, будучи еще аспиранткой, занималась подготовкой черновиков двух взаимосвязанных эссе, «Понимание и политика» и «О природе тоталитаризма», которые вместе составляли самую трудную и, в некоторых отношениях, самую проблематичную часть редакторской работы над этим сборником. Она, конечно, не несет ответственности за любые недостатки, которые, возможно, остались в итоговых версиях.
Переводчики написанных на немецком работ Арендт, прежде всего Роберт и Рита Кимбер, но также Джоан Стамбо и Элизабет Янг-Брюэль, заслуживают благодарности за осуществленную ими трудную работу. Лотте Колер усердно просмотрела почти каждое слово перевода. Я хочу поблагодарить отдел рукописей Библиотеки Конгресса за их безграничное радушие и усилия по поддержанию в наилучшем возможном состоянии помещенного в их хранилище собрания работ Арендт, которые из-за постоянного и все большего их использования стали весьма хрупкими[41]. Я благодарю Джерарда Ричарда Хулаха и Мэри и Роберта Лазарус за их практическую и моральную поддержку в течение многих лет.
Хотя Ханна Арендт с явным раздражением относилась к любому утверждению о том, что она «гений», настаивая на том, что ее путь к достижениям был путем сплошного тяжелого труда, никто из знавших ее не сомневался в том, что она гений дружбы. Не поощряя ни учеников, ни эпигонов, она связывала узами дружбы огромное множество разнообразных индивидуальностей. Двум из ее лучших друзей посвящается этот том: Лотте Колер и памяти Мэри Маккарти.
«Что остается? Остается язык»
Беседа с Гюнтером Гаусом
[28 октября 1964 г. по западногерманскому телевидению показали следующий разговор между Ханной Арендт и Гюнтером Гаусом, в то время знаменитым журналистом, а позже – высокопоставленным чиновником в правительстве Вилли Брандта. Это интервью получило премию Адольфа Гримме и было опубликовано на следующий год в Мюнхене под названием «Was bleibt? Es bleibt die Muttersprache» в книге Гюнтера Гауса Zur Person.
Гаус начинает разговор с того, что Арендт – первая женщина в серии его интервью, но тут же уточняет это утверждение замечанием, что у нее «очень мужское занятие» – философия. Это ведет к первому вопросу: несмотря на признание и уважение, которые она получила, осознает ли она «свою роль в кругу философов» как необычную или особенную, потому что она женщина? Арендт отвечает:]
Боюсь, я должна возразить. Я не вхожу в круг философов. Моя профессия, если об этом вообще можно так говорить, – это политическая теория. Я никогда не чувствовала себя философом и не верила, что меня примут в круг философов, как вы сейчас любезно предположили. Но вернемся к другому вопросу, который вы поставили во вступительном замечании: вы говорите, что философия обычно считается мужским занятием. Она не должна оставаться мужским занятием! Вполне возможно, что однажды женщина будет философом…[42]Гаус: Я считаю вас философом…
Арендт: Что ж, с этим я ничего поделать не могу, но, по моему мнению, это не так. Я считаю, что я попрощалась с философией раз и навсегда. Как вы знаете, я изучала философию, но это не значит, что я с ней осталась.