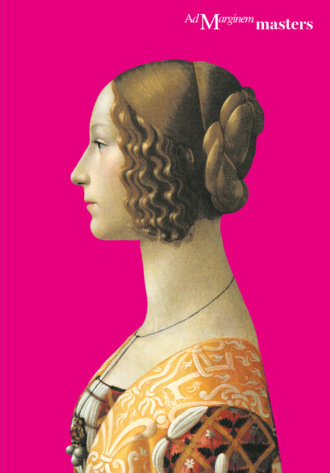
Полная версия
Женщины, искусство и общество
На протяжении XVI и XVII веков искусствоведческая литература продолжала фиксировать присутствие незаурядных женщин-художников. В Италии Карло Ридольфи и другие обозреватели XVII века подражали Вазари и, прежде чем обратиться к современности, упоминали художниц древности. В книге «Чудеса искусства» («Meraviglie dell’Arte»), опубликованной в 1648 году, Ридольфи сообщает только об Ирен ди Спилимберго и своих современницах – художницах Лавинии Фонтане, Кьяре Варотари и Джованне Гарцони, положив начало традиции, в которой имена женщин-художников появляются в литературе и исчезают из нее с поразительной произвольностью.
В течение этих двух столетий итальянская литература об искусстве становилась всё более пристрастной, поскольку творчество женщин-художников, как и их современников-мужчин, обусловливалось желанием писателей-мужчин прославлять конкретные города и их художников. Достижения художниц приводятся как доказательство размаха художественных талантов в городах с их уникальной культурой и творцами. Так, в XVII веке в Болонье граф Мальвазия, директор Академии дель Нудо, влиятельный вельможа и разборчивый коллекционер, начал свою книгу «Фельсина-художница: жизнеописания болонских живописцев» («Felsina Pittrice») (1678) с нападок на Вазари за его пристрастие к флорентийским художникам: «Я не стану здесь спорить об истоках живописи, то есть о том, как, когда и где она зародилась. Я не стану приводить различные ученые мнения древних авторов. Я пишу не об искусстве, а о художниках, вернее, только о художниках моего родного города». Затем он ставит себе в заслугу раскрытие художественного дарования Элизабетты Сирани, чья слава послужила доказательством уникальности Болоньи. Ангвиссола, Фонтана и Феде Галиция стоят отдельно, в самом конце списка портретистов-мужчин, но похвала Мальвазии в адрес Сирани, которая продолжает традицию, смешивающую личность и художника, – это часть более великого прославления завоеванного Болоньей недавно статуса родины художников, соперничающих с римскими: «Я жил в преклонении перед ее достоинствами, которые в ней были исключительны, и перед ее добродетелью, которая была далеко не обычной, и перед несравненным ее смирением, неописуемой скромностью, непревзойденной добротой».
Обзоры в Северной Европе, следовавшиие итальянскому образцу, как правило, более умеренны по тону. В самом раннем из них, в «Книге о художниках» («Het Schilder Boeck») Карела ван Мандера, опубликованной в 1604 году, опущены имена пяти нидерландских женщин-художников, упомянутых Вазари, однако последующие работы голландских и фламандских авторов подтверждают значительное число художниц, активно творивших в эпоху Северного Возрождения. В третьем издании книги «Великий театр нидерландских художников и художниц» («Groote Schouburgh») (1721) Арнольд Хоубракен приводит имена одиннадцати женщин-художников. И всё же, несмотря на огромный интерес к творчеству художниц в XVII веке в Голландии, где Реформация либерализовала отношение к женщинам, к XVIII веку обозреватели начали смещать акцент на то, что стало главной эстетической задачей той эпохи: выявление и определение «женской чувствительности» в искусстве. Жерар де Лересс, писавший о цветочных натюрмортах в своей «Великой книге живописи» («Het Groot Schilderboeck») (1707), объяснял это так: «…примечательно, что среди различных направлений в искусстве нет более женственного и подходящего для женщины, чем это».
Женщины были вне академических интеллектуальных споров, господствовавших в искусстве, ибо за редким исключением их не принимали в академии Рима и Парижа, главные центры художественного образования в XVIII веке. А поскольку их не допускали в классы рисунка с натуры, они не были достаточно подготовлены для того, чтобы трудиться в высоких жанрах, таких как историческая живопись. Зарождение современной художественной критики в тот период возродило интерес к иерархии жанров, в которых безраздельно господствовала историческая живопись.
XVIII век начался с периода рококо – придворного изящного стиля, в котором затейливость, сентиментальность и услада в высшей степени отвечали вкусам аристократов, мужчин и женщин. Ко второй половине столетия с появлением философских исследований природы половых различий начала меняться и гендерная идентичность. Произошел переход от старых форм общественной жизни к современному разделению на общественное и частное, положенное в основание современной семьи. Параллельно современное понятие гендера строилось вокруг противопоставления публичной сферы мужской деятельности и частной, женской домашней сферы.
Хотя французские писатели XVII века прославляли «женский разум», а Корнель и Декарт восхищались женским интеллектом и проницательностью, в XVIII веке в основу эстетических суждений легло критическое отношение к женщине. Жан де Лабрюйер, следуя примеру таких классических авторов, как Квинтилиан, который противопоставлял «изнеженное» пустое красноречие здоровому красноречию мужественного оратора, провел аналогию между критикой женщин и порицанием косметики. Такие аналогии, перенесенные на изображение, служили основанием для осуждения излишне изысканного мазка и неумеренного наслаждения цветом. Шарль Кошен, писавший во времена правления Людовика XV, не советовал художникам наносить краски таким образом, словно они женщины, наносящие белила и румяна. Художники, работавшие в новой, входившей тогда в моду технике пастели, употребляли многие из минеральных пигментов, которые попадали на женские лица. Стремление придать искусству женственные формы сохраняется по сей день. В 1964 году Жан Старобинский, характеризуя стиль рококо, утверждал, что его «можно определить как пышное барокко в миниатюре: оно блистает и сияет, превращая мифологические образы власти в детские и женоподобные. Он идеально иллюстрирует искусство, в котором ослабление основополагающих ценностей сочетается с засилием элегантных, наивных, легкомысленных, вызывающих улыбку форм».
Эстетические споры между природным и искусственным велись в контексте попыток Просвещения применить научные модели к изучению человеческой природы. Важное место в них отводилось попыткам определить, какие черты и особенности человеческого существования проистекают из природы и, следовательно, неизменного естественного закона, а какие аспекты нашей жизни – результат обычаев и законов, установленных человеком. Вольтер, Антуан Тома, Монтескье и другие философы внесли свой вклад в теорию равенства, основываясь на естественном праве, однако значительная группа мыслителей открыто отрицала равенство мужчин и женщин, апеллируя к закону или природе. Именно идеи Жан-Жака Руссо о месте женщины в социальном и политическом устройстве общества стали отождествляться с новым, современным миром. Аргументы Руссо важны не только потому, что они одобряют разделение рабочей и домашней сфер, на котором зиждится развитие современного капитализма, но и потому, что они продолжают давнюю западную традицию, рационализировавшую изоляцию и угнетение женщины в патриархальной культуре. Руссо не только считал женщин низшими и покорными существами от природы, но и придавал большое значение идее разделения людей по половому признаку. Он был убежден, что женщины лишены интеллектуальных способностей мужчин и поэтому их удел не искусство и развитие цивилизации, а домашнее хозяйство. Под влиянием Руссо во второй половине XVIII века женственность всё больше отождествлялась с природой. Хотя его позицию можно рассматривать как реакцию на вполне реальное политическое и художественное влияние некоторых женщин в начале века, а также как часть сложного диалога, о котором пойдет речь в пятой главе этой книги, к концу столетия она господствовала в народном творчестве. В романе «Эмиль», опубликованном в 1762 году, Руссо приводит длинный список женских добродетелей, которые он считал врожденными, среди них стыдливость, скромность, любовь к нарядам и желание нравиться. «Я хотел бы, чтобы ты помнила, моя дорогая, – писал Сэмюэл Ричардсон в письме к своей дочери в 1741 году, – что как бесстрашие, свобода и в разумной мере дерзость приличествуют мужчине, так же и мягкость, нежность и скромность делают твой пол привлекательным. Только в этом случае мы не отдаем предпочтение своему подобию; и чем меньше вы похожи на нас, тем больше нас очаровываете…» Жесткая поляризация и «натурализация» половых различий стала преобладать в дискуссиях о роли женщин в искусстве. В работах женщины ценилась не только раскрываемая в них «женственность» их создательницы, но и техника и сюжеты, которые теперь считались подходящими и «естественными» для женщины. «Хорошо ваять из глины, – замечает Джордж Пастон в своих „Маленьких мемуарах XVIII века“, – признак сильного духа и неженское занятие, но слепить что-то кое-как из воска или хлеба – занятие вполне женское».
По мере того, как разделение между Разумным Мужчиной и очаровательной, но покорной женщиной усугублялось, женщины всё меньше стали появляться в публичной сфере, где формировалось искусство. Оценка женского искусства как биологически детерминированного или как продолжения домашней и облагораживающей роли женщины в обществе достигла своего апогея в XIX веке. Наиболее ярко это выразилось в буржуазной идеологии, разделявшей мужскую и женскую сферу деятельности, в том числе и в искусстве. «Ангел в доме» Джона Рёскина парил над миром, где класс и пол были строго определены, женский труд обесценен, а семья всё больше приватизировалась. «Мужскому гению нечего бояться женского вкуса, – писал Леон Лагранж в Gazette des Beaux-Arts в 1860 году. – Пусть мужчины задумывают великие архитектурные проекты, монументальную скульптуру и самые возвышенные формы живописи, а также те формы графического искусства, которые требуют высокого и совершенного понимания искусства. Словом, пусть мужчины займутся всем, что связано с великим искусством. Пусть женщины займутся теми видами искусства, которые они всегда предпочитали, – пастель, портреты и миниатюры. Или изображают цветы, чудо изящества и свежести, которые могут соперничать лишь с изяществом и свежестью самих женщин».
Во второй половине XIX века, прежде всего в Англии и Америке, усилились требования к женщинам-художникам ограничить свою деятельность тем, что считалось от природы женским. Растущее число женщин, желающих повысить уровень своего художественного образования, побудило многих художниц в этих странах строить новые отношения с господствующей идеологией женственности. Некоторые из них, например Элизабет Томпсон и Роза Бонёр, выделились как «исключительные», освободившись от ограничений своей женственности, однако художественные критики продолжали оценивать работы большинства женщин с точки зрения гендера. Писатель и критик Ж.К. Гюисманс объяснял умение Мэри Кассат рисовать детей ее женскими свойствами, а не художественным мастерством: «Только женщина может изобразить детство…», – говорил он. Подобные высказывания отражают внеисторический, ретроградный взгляд на «женскую» природу. Они игнорируют самоотверженность, тяжелый труд и жертвы, на которые идут многие женщины-художники, внося свой вклад в формирование визуальной культуры.
Именно в истории искусства XIX века нам следует искать истоки категорий «женщина-художник» и «женская школа». Тотальное переписывание истории искусства как непересекающихся отдельных линий для мужчин и женщин заложило основу для исследований ХХ века, в которых женщинами и их искусством, некогда обособленным, легко можно было пренебречь. Голос Рёскина в XIX веке преобладал, но именно Анна Джеймсон стала первой писательницей, заявившей о себе как искусствовед. Джеймсон тоже верила в то, что есть особое, отдельное женское искусство, равное мужскому, но отличающееся от него: «Всеми силами я хочу противостоять часто повторяемому, но самому лживому комплименту, который бездумно говорят женщинам, мол, у гениальности нет пола. Может быть равным дарование, но его качество и применение будет и должно отличаться».
В книге «Священное и легендарное искусство» (1848) Джеймсон показала, сколь весома роль женщины в христианской традиции и искусстве. Ее утверждение о том, что милосердие и чистота связаны с женским взглядом на мир, а также подчеркивание ею своеобразия, эмоций и нравственной цели как женских добродетелей быстро нашли отклик у викторианской публики. Вскоре появился целый ряд книг о женщинах, в которых авторы поддерживали всё, чего добились женщины, и выражали веру в историческую неизбежность равенства, попутно наметив и обрисовав биологически обусловленные сферы женской деятельности. Первыми из этого ряда были «Женщины в истории искусства» («Die Frauen in der Kunstgeschichte») Эрнста Гуля (1858) и «Женщины-художники всех времен и народов» Элизабет Эллет (1859). За ними последовали «Английские художницы» Эллен Клейтон (1876), «Женщина в искусстве» («La Femme dans l’Art») Мариуса Вашона (1893), энциклопедия Клары Клемент «Женщины в изобразительном искусстве с VII века до н. э. по XX век» (1904), «Женщины-художники мира» Уолтера Спэрроу (1905) и «Художницы Болоньи» Лауры Рагг (1907). Их аргументы заставляют нас относиться к искусствоведческим и критическим оценкам женских произведений искусства со здоровым скептицизмом и помогают понять, почему бóльшая часть современного феминистского искусства выбрала язык как область борьбы за содержание и смысл в искусстве.
Глава 1
Средние века
Современное разграничение изобразительного искусства и ремесел возникло в эпоху Возрождения, когда живопись, скульптура и архитектура были отнесены к разряду свободных искусств. Общее исключение женщин из элитарных сфер художественной культуры, таких как живопись и скульптура, и вовлечение значительного их числа в ремесленное производство закрепили иерархический порядок в изобразительном искусстве. Феминизм в искусстве не признает различия между «искусством» и «ремеслом», основанного на различиях в материалах, технической подготовке и образовании (см. главу 12). Он также отвергает дифирамбы тонко проявляемой в ремеслах и материалах «женственности» и в то же время указывает на опасность сакрализации ремесленной традиции простым переименованием ее в «искусство». Вернуться к доренессансным ценностям и феодальному разделению труда невозможно, однако мы можем попробовать поискать в Средневековье образцы искусства, не основанные на современных представлениях о художественной индивидуальности.
О повседневной жизни и обычаях женщин в Средние века мы знаем во многом благодаря изображениям, запечатлевшим их труд, как, например, на иллюстрации в рукописи XIII века, на которой женщина доит корову. Похожие сцены, вырезанные на капителях романских и готических церквей, вышитые на гобеленах и с ювелирной точностью нарисованные на полях книг, представляют собой повседневный аналог священного образа Девы Марии с Младенцем, который господствовал в средневековой визуальной культуре. Жизнь большинства мужчин и женщин в Средние века была сосредоточена вокруг работы, независимо от того, трудились ли они во славу Божью или ради пропитания. Нам известны имена некоторых влиятельных женщин, меценатов и дарителей подобных изображений, но мы почти ничего не знаем об их авторах, поскольку немногие из них подписывались собственными именами, а сохранение их биографий не играло в данном случае никакой роли.
Христианство как господствующая сила в западной средневековой жизни формировало связи и культуру, а также религиозные убеждения и образование. Присвоив себе то, что Фуко назвал «привилегиями знания», Церковь осуществляла религиозную и моральную власть, которая наделяла формой человеческое самовыражение: «Ощущавшаяся тогда потребность в непосредственной причастности к духовной жизни, в работе по спасению души, в истине Великой Книги – всё это свидетельствует о борьбе за новую субъективность». Иерархическая организация Церкви обостряла классовые различия в обществе; ее патриархальная догма включала в себя полный набор восходящих к Древней Греции и Ветхому Завету представлений о естественной неполноценности женщин. В то время как писатели и мыслители Средневековья подробно обсуждали вопросы, касавшиеся роли женщин и их надлежащего статуса в обществе, в центре христианской репрезентации было противопоставление Евы и Марии, соблазнительницы и святой.
Последние кропотливые исследования социальных историков пролили свет на неоднозначное положение женщины между IV и XIV веками. Ученые подтвердили значительные различия в правах мужчин и женщин на владение имуществом и наследование, в обязанностях платить феодальные подати и налоги, в гражданских и юридических правах, а также в праве представлять доказательства или выполнять функции судей или священников. Смешение суверенитета с личной собственностью (феодом) способствовало появлению ряда влиятельных женщин из высшего сословия, в то время как большинство женщин были ограничены домом и экономически зависели от отцов, мужей, братьев или правителей. Жесткость социального разделения и пропасть, существовавшая между высшими и низшими сословиями, означали, что женщины из высшего сословия имели больше общего с мужчинами своего круга, чем с крестьянками.

[13] Иллюстрация из рукописи Бодлианской библиотеки. Ms 764, f. 41v
Хотя социальные роли женщин ограничивались христианской этикой, делавшей упор на послушании и целомудрии, а также материнством и домашней ответственностью и феодальной правовой системой, основанной на контроле собственности, есть свидетельства того, что их жизнь, как и жизнь мужчин, определялась и социально-экономическими факторами вне церковного контроля, по крайней мере в период раннего Средневековья. Жизнь женщин, похоже, не была приватизирована, а их социальные функции не сводились к продолжению рода и не определялись исключительно полом. Симбиотические способы производства и воспроизводства, отсутствие четко очерченных границ между домашней жизнью, с одной стороны, и общественной и экономической деятельностью – с другой, а также суровые физические условия средневековой жизни побуждали женщин активнее включаться в управление семейным имуществом, а равно и в общую экономическую жизнь. Есть свидетельства того, что они участвовали во всех формах культурного производства – от каменной кладки и строительства до иллюминированных рукописей и вышивки.
Бóльшая часть произведений искусства того периода создавалась в монастырях. Доступ к образованию и монастырю, центру интеллектуальной и художественной жизни женщин с VI по XVI век, как правило, определялся благородным происхождением. Историки средневековой Церкви делят ее историю на два периода, разделенные реформами папы Григория VII (1073–1085) в конце XI века. Это разделение важно: григорианская реформа, совпавшая с развитием феодального общества, не только резко ограничила роль женщины в церковной жизни и породила новую традицию женского мистицизма, но и выдвинула на первый план идеологию божественной женственности, достигшей своего апогея в культе Девы Марии в ХII веке. Поскольку большинство средневековых монахинь-художниц, упоминаемых в феминистской истории искусства, жили в Германии ХII века и принадлежали к влиятельным политическим и социальным кругам, расширившим участие образованных женщин в своей культуре, необходимо различать произведения раннего и позднего Средневековья.
Истоки женского монашества восходят к уединенной аскетической христианской жизни, которую впервые стали вести в III веке как мужчины, так и женщины-отшельники. Первым из пустынножителей обычно считают Антония, но прежде чем удалиться в египетскую пустыню, он поместил свою сестру в женскую монашескую общину в Александрии. В 512 году епископ Цезарий Арелатский основал женский монастырь, поставив во главе его свою сестру Цезарию и повелев, чтобы «девы Христовы между пением псалмов и постами, бдениями и чтением красиво переписывали священные книги». Так было положено начало традиции ученых-монахинь, несмотря на то что монахи-мужчины продолжали выражать в своих сочинениях отвращение к сексуальности и женщинам вообще.
В монастыре женщины получали образование, при том что преподавать им запрещалось в соответствии с предостережением апостола Павла: «Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; а учить жене не позоляю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Начиная с VI века бенедиктинский устав (написанный Бенедиктом Нурсийским [ок. 480–547]) определял общинную жизнь как мужчин, так и женщин, руководствуясь двумя противоречивыми установками относительно гендера в религиозной жизни. С одной стороны, в женщинах видели сексуальную угрозу мужскому целомудрию, а с другой – идеалом бенедиктинского устава и, следовательно, монашества была духовная общность, а не гендерная дифференциация. В Средние века монастырь представлял собой альтернативу браку, он предлагал убежище нонконформистам и женщинам-интеллектуалам. Хотя женщины наравне с мужчинами обращались в веру и получали наставления, они были отстранены от тех форм власти, с помощью которых Церковь осуществляла контроль: им запрещалось проповедовать, совершать богослужения и становиться священниками. Тем не менее устав святого Бенедикта санкционировал основание двойных монастырей, в которых монахи и монахини вели общинную жизнь и часто работали бок о бок. Многими из этих монастырей (до их упразднения Вторым Никейским собором в 787 году) управляли аббатисы, известные своей ученостью, среди них Анструда Лаонская, Гертруда Нивельская, Бертила Шелльская и Хильда из Уитби.
Традиционная история искусства не упоминает женщин, когда речь идет о художественных произведениях, созданных в двойных монастырях, однако существует немало свидетельств о том, что к VIII веку влиятельные и образованные настоятельницы из знатных семей руководили скрипториями, где переписывались и иллюстрировались рукописи. Об их создании мало что известно, и были ли их авторы и переписчики мужчинами или женщинами, определить невозможно, тем не менее сам факт, что были двойные монастыри, позволяет предположить, что и монахи, и монахини участвовали в составлении, переписывании и иллюминировании рукописей. В документах той эпохи мы находим впечатляющие списки женских имен, упоминаемых в рукописях после 800 года, когда из скриптория монастыря Шеля под руководством сестры Карла Великого Гизелы вышли тринадцать томов рукописей, включая трехтомный комментарий к псалмам, подписанный девятью женщинами-переписчиками. В житиях святых раннего Средневековья упоминаются женщины-иллюстраторы; в частности говорится о письме, написанном святым Бонифацием в 735 году Эдбурге Мерсийской, настоятельнице собора в Танет, в котором он благодарит ее за присланные ему в дар духовные книги и просит «переписать для меня золотыми буквами послания апостола Петра…».
Несмотря на свидетельства о женщинах, активно подвизавшихся в британских и каролингских скрипториях, над первым документально подтвержденным обширным циклом миниатюр трудилась женщина-испанка. Самые известные визионерские рукописи Х и ХI веков изображают апокалиптические видения святого Иоанна Богослова из книги Откровения. Они включают группу манускриптов (известно около двадцати четырех рукописных списков с иллюстрациями), содержащих «Толкование на Апокалипсис», написанное около 786 года испанским монахом Беатусом Лиебанским (ок. 730–798). Иллюстрации в них выполнены в характерном для испанских иллюминированных рукописей мосарабском стиле, созданном христианскими художниками под влиянием исламской формально-декоративной традиции. Один из списков, так называемый «Жиронский беатус», был составлен и проиллюстрирован в монастыре в горах Леона, на северо-западе Испании, священником, известным как Senior («Старший пресвитер»), которому помогали иллюстрировать монах Эметерий, чью манеру письма идентифицировали по более ранней рукописи, и женщина по имени Энде. Следуя обычаю знатных дам своего времени, Энде называла себя DEPINTRIX (художницей) и DEI AIUTRIX (служанкой Божьей). Ее отождествляют со школой иллюстраторов и миниатюристов средневековой Испании, в которую также входила поэтесса Леодегундия.
В «Жиронском беатусе» исступленные видения и фантастические образы святого Иоанна сочетаются с чистым орнаментом и пристальным вниманием к натуралистическим подробностям. Большинство иллюстраций выполнены в плоском декоративном стиле, характерном для мосарабских миниатюр, со стилизованными фигурами на фоне широких цветных полос. В других местах насыщенные краски и орнаментированные поверхности оттеняются нежными тонами и тонкой игрой линий.
Хотя мы, скорее всего, никогда доподлинно не узнаем, какую роль сыграла Энде и ее современницы в раннесредневековой иллюминации, современное предположение о том, что в скриптории работали одни монахи, явно ошибочно. В Х и ХI веке развитие феодализма и церковная реформа привели к тому, что женщины начали терять влияние, которое они имели в раннем Средневековье. Только в Германии, где империя Оттонов способствовала беспрецедентному расцвету женской интеллектуальной и художественной культуры, мы можем проследить за творчеством отдельных женщин.

