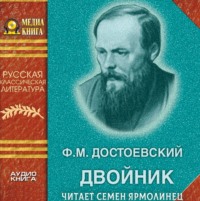Полная версия
Город случайностей
Что ж, сударь? и ушёл человек. День жду, вот, думаю, воротится к вечеру – нет! Другой день нет, третий – нет. Испугался я, тоска меня ворочает; не пью, не ем, не сплю. Обезоружил меня совсем человек! Пошёл я на четвёртый день ходить, во все кабачки заглядывал, спрашивал – нет, пропал Емельянушка!
«Уж сносил ли ты свою голову победную? – думаю. – Может, издох где у забора пьяненький и теперь, как бревно гнилое, лежишь». Ни жив ни мёртв я домой воротился. На другой день тоже идти искать положил. И сам себя проклинаю, зачем я тому попустил, чтоб глупый человек на свою волю ушёл от меня. Только смотрю: чем свет, на пятый день (праздник был), скрипит дверь. Вижу, входит Емеля: синий такой и волосы все в грязи, словно спал на улице; исхудал весь, как лучина; снял шинелишку, сел ко мне на сундук, глядит на меня. Обрадовался я, да пуще прежнего тоска к моей душе припаялась. Оно вот как, сударь, выходит: случись, то есть, надо мной такой грех человеческий, так я, право слово, говорю: скорей, как собака, издох бы, а не пришёл. А Емеля пришёл! Ну, натурально, тяжело человека в таком положении видеть. Начал я его лелеять, ласкать, утешать. «Ну, говорю, Емельянушка, рад, что ты воротился. Опоздал бы маленько прийти, я б и сегодня пошёл по кабачкам тебя промышлять. Кушал ли ты?»
– Кушал-с, Астафий Иваныч.
– Полно, кушал ли? Вот, братец, щец вчерашних маленько осталось; на говядине были, не пустые; а вот и лучку с хлебом. Покушай, говорю: оно на здоровье не лишнее.
Подал я ему; ну, тут и увидал, что, может, три дня целых не ел человек, – такой аппетит оказался. Это, значит, его голод ко мне пригнал. Разголубился я, на него глядя, сердечного. Сем-ка, я думаю, в штофную сбегаю. Принесу ему отвести душу, да и покончим, полно! Нет у меня больше на тебя злобы, Емельянушка! Принёс винца. Вот, говорю, Емельян Ильич, выпьем для праздника. Хочешь выпить? оно здорово.
Протянул было он руку, этак жадно протянул, уж взял было, да и остановился; подождал маленько; смотрю: взял, несёт ко рту, плескает у него винцо на рукав. Нет, донёс ко рту, да тотчас и поставил на стол.
– Что ж, Емельянушка?
– Да нет; я, того… Астафий Иваныч.
– Не выпьешь, что ли?
– Да я, Астафий Иваныч, так уж… не буду больше пить, Астафий Иваныч.
– Что ж, ты совсем перестать собрался, Емелюшка, или только сегодня не будешь?
Промолчал. Смотрю: через минуту положил на руку голову.
– Что ты, уж не заболел ли, Емеля?
– Да так, нездоровится, Астафий Иваныч.
Взял я его и положил на постель. Смотрю, и вправду худо: голова горит, а самого трясёт лихорадкой. Посидел я день над ним; к ночи хуже. Я ему квасу с маслом и с луком смешал, хлебца подсыпал. Ну, говорю: тюри покушай, авось будет лучше! Мотает головой. «Нет, говорит, я уж сегодня обедать не буду, Астафий Иваныч». Чаю ему приготовил, старушоночку замотал совсем, – нет ничего лучше. Ну, думаю, плохо! Пошёл я на третье утро к врачу. У меня тут медик Костоправов знакомый жил. Ещё прежде, когда я у Босомягиных господ находился, познакомились: лечил он меня. Пришёл медик, посмотрел. «Да нет, говорит, оно плохо. Нечего было, говорит, и посылать за мной. А пожалуй, дать ему порошков». Ну, порошков-то я не дал; так, думаю, балуется медик: а между тем наступил пятый день.
Лежал он, сударь, передо мной, кончался. Я сидел на окне, работу в руках держал. Старушоночка печку топила. Все молчим. У меня, сударь, сердце по нём, забулдыге, разрывается: точно это я сына родного хороню. Знаю, что Емеля теперь на меня смотрит, ещё с утра видел, что крепится человек, сказать что-то хочет, да, как видно, не смеет. Наконец, взглянул на него; вижу, тоска такая в глазах у бедняги, с меня глаз не сводит; а увидал, что я гляжу на него, тотчас потупился.
– Астафий Иванович!
– Что, Емелюшка?
– А вот если б, примером, мою шинелёночку в Толкучий снесть, так много ль за неё дали бы, Астафий Иваныч?
– Ну, говорю, неведомо, много ли дали бы. Может, и трехрублёвый бы дали, Емельян Ильич.
А поди-ка понеси в самом деле, так и ничего бы не дали, кроме того что насмеялись бы тебе в глаза, что такую злосчастную вещь продаёшь. Так только ему, человеку божию, зная норов его простоватый, в утеху сказал.
– А я-то думал, Астафий Иваныч, что три рубля серебром за неё положили бы; она вещь суконная, Астафий Иваныч. Как же трехрублёвый, коли суконная вещь?
– Не знаю, говорю, Емельян Ильич; коль нести хочешь, так конечно, три рубля нужно будет с первого слова просить.
Помолчал немного Емеля; потом опять окликает:
– Астафий Иваныч!
– Что, спрашиваю, Емельянушка?
– Вы продайте шинелёночку-то, как я помру, а меня в ней не хороните. Я и так полежу; а она вещь ценная; вам пригодиться может.
Тут у меня так, сударь, защемило сердце, что и сказать нельзя. Вижу, что тоска предсмертная к человеку подступает. Опять замолчали. Этак час прошло времени. Посмотрел я на него сызнова: всё на меня смотрит, а как встретился взглядом со мной, опять потупился.
– Не хотите ли, говорю, водицы испить, Емельян Ильич?
– Дайте, господь с вами, Астафий Иваныч.
Подал я ему испить. Отпил.
– Благодарствую, говорит, Астафий Иваныч.
– Не надо ль ещё чего, Емельянушка?
– Нет, Астафий Иваныч; ничего не надо; а я, того…
– Что?
– Энтого…
– Чего такого, Емелюшка?
– Ретузы-то… энтого… это я их взял у вас тогда… Астафий Иваныч…
– Ну, господь, говорю, тебя простит, Емельянушка, горемыка ты такой, сякой, этакой! отходи с миром… А у самого, сударь, дух захватило и слёзы из глаз посыпались; отвернулся было я на минуту.
– Астафий Иваныч…
Смотрю: хочет Емеля мне что-то сказать; сам приподнимается, силится, губами шевелит… Весь вдруг покраснел, смотрит на меня… Вдруг вижу: опять бледнеет, бледнеет, опал совсем во мгновенье; голову назад закинул, дохнул раз да тут и богу душу отдал.
Чужая жена и муж под кроватью
(Происшествие необыкновенное)
I– Сделайте одолжение, милостивый государь, позвольте вас спросить…
Прохожий вздрогнул и несколько в испуге взглянул на господина в енотах, приступившего к нему так без обиняков, в восьмом часу вечера, среди улицы. А уж известно, что если один петербургский господин вдруг заговорит на улице о чём-нибудь с другим, совершенно незнакомым ему господином, то другой господин непременно испугается.
Итак, прохожий вздрогнул и несколько испугался.
– Извините, что я вас потревожил, – говорил господин в енотах, – но я… я, право, не знаю… вы, вероятно, извините меня; вы видите, я в некотором расстройстве духа…
Тут только заметил молодой человек в бекеше, что господин в енотах был точно в расстройстве. Его сморщенное лицо было довольно бледненько, голос его дрожал, мысли, очевидно, сбивались, слова не лезли с языка, и видно было, что ему ужасного труда стоило согласить покорнейшую просьбу, может быть к своему низшему в отношении степени или сословия лицу, с нуждою непременно обратиться к кому-нибудь с просьбой. Да и, наконец, просьба эта во всяком случае была неприличная, несолидная, странная со стороны человека, имевшего такую солидную шубу, такой почтенный, превосходного тёмно-зелёного цвета фрак и такие многознаменательные украшения, упещрявшие этот фрак. Видно было, что всё это смущало самого господина в енотах, так что наконец, расстроенный духом, господин не выдержал, решился подавить своё волнение и прилично замять неприятную сцену, которую сам же вызвал.
– Извините меня, я не в себе; но вы, правда, меня не знаете… Извините, что обеспокоил вас; я раздумал.
Тут он приподнял из учтивости шляпу и побежал далее.
– Но позвольте, сделайте милость.
Маленький человек, – однако, скрылся во мраке, оставив в остолбенелом состоянии господина в бекеше.
«Что за чудак!» – подумал господин в бекеше. Потом, как следует подивившись и вышед наконец из остолбенелого состояния, он вспомнил про своё и начал прохаживаться взад и вперёд, пристально глядя на ворота одного бесконечно-этажного дома. Начинал падать туман, и молодой человек несколько обрадовался, ибо прогулка его при тумане была незаметнее, хотя, впрочем, только какой-нибудь безнадёжно весь день простоявший извозчик мог заметить её.
– Извините!
Прохожий опять вздрогнул: опять тот же господин в енотах стоял перед ним.
– Извините, что я опять… – заговорил он, – но вы, вы – верно, благородный человек! Не обращайте на меня внимания как на лицо, взятое в общественном смысле; я, впрочем, сбиваюсь; но вникните, по-человечески… перед вами, сударь, человек, нуждающийся в покорнейшей просьбе…
– Если могу… что вам угодно?
– Вы, может, подумали, что уж я у вас денег прошу! – сказал таинственный господин, кривя рот, истерически смеясь и бледнея.
– Помилуйте-с…
– Нет, я вижу, что я вам в тягость! Извините, я не могу переносить себя; считайте, что вы видите меня в расстроенном состоянии духа, почти в сумасшествии, и не заключите чего-нибудь…
– Но к делу, к делу! – отвечал молодой человек, ободрительно и нетерпеливо кивнув головой.
– А! Теперь вот как! Вы, такой молодой человек, мне напоминаете о деле, как будто я какой нерадивый мальчишка! Я решительно выжил из ума!.. Как я вам кажусь теперь в моём унижении, скажите откровенно?
Молодой человек сконфузился и смолчал.
– Позвольте вас спросить откровенно: не видали ль вы одной дамы? В этом вся просьба моя! – решительно проговорил, наконец, господин в енотовой шубе.
– Дамы?
– Да-с, одной дамы.
– Я видел… но их, признаюсь, так прошло много…
– Так точно-с, – отвечал таинственный человек с горькой улыбкой. – Я сбиваюсь, я не то хотел спросить, извините меня; я хотел сказать, не видали ль вы одной госпожи в лисьем салопе, в тёмном бархатном капоре с чёрной вуалью?
– Нет, такой не видал… нет, кажется, не заметил.
– А! В таком случае извините-с!
Молодой человек хотел что-то спросить, но господин в енотах опять исчез, опять оставив в остолбенелом состоянии своего терпеливого слушателя. «А, чёрт бы его взял!» – подумал молодой человек в бекеше, очевидно расстроенный.
Он с досадою закрылся бобром и опять стал прохаживаться, соблюдая предосторожности, мимо ворот бесконечно-этажного дома. Он злился.
«Что ж она не выходит? – думал он. – Скоро восемь часов!» На башне пробило восемь часов.
– Ах! Чёрт вас возьми, наконец!
– Извините-с!..
– Извините меня, что я вас так… Но вы так подкатились мне под ноги, что испугали совсем, – проговорил прохожий, морщась и извиняясь.
– Я опять к вам-с. Конечно, я вам должен казаться беспокойным и странным-с.
– Сделайте одолжение, без пустяков, объяснитесь скорее; я ещё не знаю, в чём ваше желанье?..
– Вы торопитесь? Видите ли-с. Я вам всё расскажу откровенно, без лишних слов. Что ж делать! Обстоятельства связывают иногда людей совершенно разнородных характеров… Но, я вижу, вы нетерпеливы, молодой человек… Так вот-с… впрочем, я не знаю, как и говорить: я ищу даму-с (я уж решился всё говорить). Я именно должен знать, куда пошла эта дама? Кто она – я думаю, вам не нужно знать её имени, молодой человек.
– Ну-с, ну-с, дальше.
– Дальше! Но ваш тон со мной! Извините, может быть, я вас оскорбил, назвав вас молодым человеком, но я не имел ничего… одним словом, если вам угодно оказать мне величайшую услугу, так вот-с, одна дама-с, то есть я хочу сказать порядочная женщина, из превосходного семейства, моих знакомых… мне поручено… я, видите ли, сам не имею семейства…
– Ну-с.
– Вникните в моё положение, молодой человек (ах, опять! Извините-с; я всё называю вас молодым человеком). Каждая минута дорога… Представьте себе, эта дама… но не можете ли вы мне сказать, кто живёт в этом доме?
– Да… тут много живут.
– Да, то есть вы совершенно справедливы, – отвечал господин в енотах, слегка засмеявшись для спасения приличий, – чувствую, я немного сбиваюсь… но к чему такой тон ваших слов? Вы видите, что я чистосердечно сознаюсь в том, что сбиваюсь, и если вы надменный человек, то уж вы достаточно видели моё унижение… Я говорю, одна дама, благородного поведения, то есть лёгкого содержания, – извините, я так сбиваюсь, точно про литературу какую говорю; вот – выдумали, что Поль де Кок[1] лёгкого содержания, а вся беда от Поль де Кока-то-с… вот!..
Молодой человек с сожалением посмотрел на господина в енотах, который, казалось, окончательно сбился, замолчал, глядел на него, бессмысленно улыбаясь, и дрожащею рукою, без всякой видимой причины, хватал его за лацкан бекеши.
– Вы спрашиваете, кто здесь живёт? – спросил молодой человек, несколько отступая назад.
– Да, многие живут, вы сказали.
– Здесь… я знаю, что здесь Софья Остафьевна тоже живёт, – проговорил молодой человек шёпотом и даже с каким-то соболезнованием.
– Ну, вот видите, видите! Вы что-нибудь знаете, молодой человек?
– Уверяю вас, нет, ничего не знаю… Я судил по расстроенному вашему виду.
– Я тотчас узнал от кухарки, что она сюда ходит; но вы не на то напали, то есть не к Софье Остафьевне… она с ней незнакома…
– Нет? Ну, извините-с…
– Видно, что вам это всё неинтересно, молодой человек, – проговорил странный господин с горькой иронией.
– Послушайте, – сказал молодой человек, заминаясь, – я в сущности не знаю причины вашего состояния, но вам, верно, изменили, вы скажите прямо?
Молодой человек одобрительно улыбнулся.
– Мы по крайней мере поймём друг друга, – прибавил он, и всё тело его великодушно обнаружило желание сделать лёгкий полупоклон.
– Вы убили меня! Но – откровенно признаюсь вам – именно так… но с кем не случается!.. До глубины тронут вашим участием. Согласитесь, между молодыми людьми… Я хоть не молод, но, знаете, привычка, холостая жизнь, между холостёжью, известно…
Ну, уж известно, известно! Но чем же я могу вам помочь?
– А вот-с; согласитесь, что посещать Софью Остафьевну… Впрочем, я ещё не знаю наверное, куда пошла эта дама; я знаю только, что она в этом доме; но, видя вас прогуливающимся, – а я сам прогуливался по той стороне, – думаю… я вот, видите ли, жду эту даму… я знаю, что она тут, – мне бы хотелось встретить её и объяснить, как неприлично и гнусно… одним словом, вы меня понимаете…
– Гм! Ну!
– Я и не для себя это делаю; вы не подумайте – это чужая жена! Муж там стоит, на Вознесенском мосту; он хочет поймать, но он не решается – он ещё не верит, как и всякий муж… (тут господин в енотах хотел улыбнуться), я – друг его; согласитесь сами, я человек, пользующийся некоторым уважением, – я не могу быть тем, за кого вы меня принимаете.
– Конечно-с; ну-с, ну-с!..
– Так вот, я всё её ловлю; мне поручено-с (несчастный муж!); но я знаю, это хитрая молодая дама (вечно Поль де Кок под подушкой); я уверен, что она прошмыгнёт как-нибудь незаметно… Мне, признаюсь, кухарка сказала, что она ходит сюда; я как сумасшедший бросился, только что известие получил; я хочу поймать; я давно подозревал и потому хотел просить вас, вы здесь ходите… вы – вы – я не знаю…
– Ну, да, наконец, что ж вам угодно?
– Да-с… Не имею чести знать вас; не смею любопытствовать, кто и как… Во всяком случае, позвольте познакомиться; приятный случай!..
Дрожащий господин жарко потряс руку молодого человека.
– Это бы я должен был сделать в самом начале, – прибавил он, – но я забыл всё приличие!
Говоря, господин в енотах не мог постоять на месте, с беспокойством оглядывался по сторонам, семенил ногами и поминутно, как погибающий, хватался рукою за молодого человека.
– Видите ли-с, – продолжал он, – я хотел обратиться к вам по-дружески… извините за вольность… хотел испросить у вас, чтоб вы ходили – по той стороне и со стороны переулка, где чёрный выход, эдак, покоем, описывая букву П, то есть. Я тоже, с своей стороны, буду ходить-с у главного подъезда, так что мы не пропустим; а я всё боялся один пропустить; я не хочу пропустить. Вы, как увидите её, то остановите и закричите мне… Но я сумасшедший! Только теперь вижу всю глупость и неприличие моего предложения!
– Нет, что ж! Помилуйте!..
– Не извиняйте меня; я в расстройстве духа, я теряюсь, как никогда не терялся! Точно меня под суд отдали! Я даже признаюсь вам – я буду благороден и откровенен с вами, – молодой человек: я даже вас принимал за любовника.
– То есть, попросту, вы хотите знать, что я здесь делаю?
– Благородный человек, милостивый государь, я далёк от мысли, что вы он; я не замараю вас этою мыслию, но… но даёте ли вы мне честное слово, что вы не любовник?..
– Ну, хорошо, извольте, честное слово, что любовник, но не вашей жены; иначе бы я не был на улице, а был бы теперь вместе с нею!
– Жены? Кто вам сказал жены, молодой человек? Я холостой, я, то есть, сам любовник…
– Вы говорили, есть муж… на Вознесенском мосту…
– Конечно, конечно, я заговариваюсь; но есть другие узы! И согласитесь, молодой человек, некоторая лёгкость характеров, то есть…
– Ну, ну! Хорошо, хорошо!
– То есть я вовсе не муж…
– Очень верю-с. Но откровенно говорю вам, что, разуверяя вас теперь, хочу сам себя успокоить и оттого собственно с вами и откровенен; вы меня расстроили и мешаете мне. Обещаю вам, что кликну вас. Но прошу вас покорнейше дать мне место и удалиться. Я сам тоже жду.
– Извольте, извольте-с, я удаляюсь, я уважаю страстное нетерпение вашего сердца. Я понимаю это, молодой человек. О, как я вас теперь понимаю!
– Хорошо, хорошо…
– До свидания!.. Впрочем, извините, молодой человек, я опять к вам… Я не знаю, как сказать… Дайте мне ещё раз честное и благородное слово, что вы не любовник!
– Ах, господи, бог мой!
– Ещё вопрос, последний: вы знаете фамилию мужа вашей… то есть той, которая составляет ваш предмет?
– Разумеется, знаю; не ваша фамилия, и кончено дело!
– А почему ж вы знаете мою фамилию?
– Да послушайте, ступайте; вы теряете время: она уйдёт тысячу раз… Ну, что же вы? Ну, ваша в лисьем салопе и в капоре, а моя в клетчатом плаще и в голубой бархатной шляпке… Ну, что ж вам ещё? Чего ж больше?
– В голубой бархатной шляпке! У ней есть и клетчатый плащ и голубая шляпка, – закричал неотвязчивый человек, мигом возвратившись с дороги.
– Ах, чёрт возьми! Ну, да ведь это может случиться… Да, впрочем, что ж я! Моя же туда не ходит!
– А где она – ваша?
– Вам это хочется знать; что ж вам?
– Признаюсь, я всё про то…
– Фу, бог мой! Да вы без стыда без всякого! Ну, у моей здесь знакомые, в третьем этаже, на улицу. Ну, что ж вам, по именам людей называть, что ли?
– Бог мой! И у меня есть знакомые в третьем этаже, и окна на улицу. Генерал…
– Генерал?!
– Генерал. Я вам, пожалуй, скажу, какой генерал: ну, генерал Половицын.
– Вот тебе на! Нет, это не те! (Ах, чёрт возьми! Чёрт возьми!)
– Не те?
– Не те.
Оба молчали и в недоумении смотрели друг на друга.
– Ну, что ж вы так смотрите на меня? – вскрикнул молодой человек, с досадою отряхая с себя столбняк и раздумье.
Господин заметался.
– Я, я, признаюсь…
– Нет, уж позвольте, позвольте, теперь будемте говорить умнее. Общее дело. Объясните мне… Кто у вас там?..
– То есть знакомые?
– Да, знакомые…
– Вот видите, видите! Я по глазам вашим вижу, что я угадал!
– Чёрт возьми! Да нет же, нет, чёрт возьми! Слепы вы, что ли? Ведь я перед вами стою, ведь я не с ней нахожусь; ну! ну же! Да, впрочем, мне всё равно; хоть говорите, хоть нет!
Молодой человек в бешенстве повернулся два раза на каблуке и махнул рукой.
– Да я ничего, помилуйте, как благородный человек, я вам всё расскажу: сначала жена сюда ходила одна; она им родня; я и не подозревал; вчера встречаю его превосходительство: говорит, что уж три недели как переехал отсюда на другую квартиру, а же… то есть не жена, а чужая жена (на Вознесенском мосту), эта дама говорила, что ещё третьего дня была у них, то есть на этой квартире… А кухарка-то мне рассказала, что квартиру его превосходительства снял молодой человек Бобыницын…
– Ах, чёрт возьми, чёрт возьми!..
– Милостивый государь, я в страхе, я в ужасе!
– Э, чёрт возьми! Да мне-то какое дело до того, что вы в страхе и в ужасе? Ах! Вон-вон мелькнуло, вон…
– Где? Где? Вы только крикните: Иван Андреич, а я побегу…
– Хорошо, хорошо. Ах, чёрт возьми, чёрт возьми! Иван Андреич!!
– Здесь, – закричал воротившийся Иван Андреич, совсем задыхаясь. – Ну, что? что? где?
– Нет, я только так… я хотел знать, как зовут эту даму?
– Глаф…
– Глафира?
– Нет, не совсем Глафира… извините, я вам не могу сказать её имя. – Говоря это, почтенный человек был бледен, как платок.
– Да, конечно, не Глафира, я сам знаю, что не Глафира, и та не Глафира; а впрочем, с кем же она?
– Где?
– Там! Ах, чёрт возьми, чёрт возьми! (Молодой человек не мог устоять на месте от бешенства.)
– А, видите! Почему же вы знали, что её зовут Глафирой?
– Ну, чёрт возьми, наконец! Ещё с вами возня! Да ведь вы говорите – вашу не Глафирой зовут!..
– Милостивый государь, какой тон!
– А, чёрт, не до тону! Что она, жена, что ли, ваша?
– Нет, то есть я не женат… Но не стал бы я сулить почтенному человеку в несчастье, человеку, – не скажу достойному всякого уважения, но по крайней мере воспитанному человеку, чёрта на каждом шагу. Вы всё говорите: чёрт возьми! чёрт возьми!
– Ну да, чёрт возьми! Вот же вам, понимаете?
– Вы ослеплены гневом, и я молчу. Боже мой, кто это?
– Где?
Раздался шум и хохот; две смазливые девушки вышли с крыльца; оба бросились к ним.
– Ах какие! Что вы?
– Куда вы суётесь?
– Не те!
– Что, не на тех напали! Извозчик!
– Куда вас, мамзель?
– К Покрову; садись, Аннушка, я довезу.
– Ну, а я с той стороны; пошёл! Смотри же, шибче вези…
Извозчик уехал.
– Это откуда?
– Боже мой, боже! Но не пойти ли туда?
– Куда?
– Да к Бобыницыну.
– Нет-с, нельзя…
– Отчего?
– Я бы, конечно, пошёл; но тогда она скажет другое; она… обернётся: а её знаю! Она скажет, что нарочно пришла, чтоб меня поймать с кем-нибудь, да беду на меня же и свалит!
– И знать, что, может быть, там она! Да вы – я не знаю, почему же – ну, да вы подите к генералу-то…
– Да ведь он переехал!
– Всё равно, понимаете? Она же ведь пошла; ну, и вы тоже – поняли? Сделайте так, что как будто не знаете, что генерал переехал, приходите как будто к нему за женой, ну и так далее.
– А потом?
– Ну, а потом накрывайте кого следует у Бобыницына; фу, ты, чёрт, какой бестолк…
– Ну, а вам-то что до того, что я накрываю? Видите, видите!..
– Что, что, батенька? Что? Опять за то же, что прежде? Ах, ты, господи, господи! Срамитесь вы, смешной человек, бестолковый вы человек!
– Ну, да зачем же вы так интересуетесь? Вы хотите узнать…
– Что узнать? Что? Ну, да, чёрт возьми, не до вас теперь! Я и один пойду; ступайте, подите прочь; стерегите, бегайте там, ну!
– Милостивый государь, вы почти забываетесь! – закричал господин в енотах в отчаянии.
– Ну, что ж? Ну, что ж, что я забываюсь? – проговорил молодой человек, стиснув зубы и в бешенстве приступая к господину в енотах. – Ну, что ж? Перед кем забываюсь?! – загремел он, сжимая кулаки.
– Но, милостивый государь, позвольте…
– Ну, кто вы, перед кем забываюсь; как ваша фамилия?
– Я не знаю, как это, молодой человек; зачем же фамилию?.. Я не могу объявить… Я лучше с вами пойду. Пойдёмте, я не отстану, я на всё готов… Но, поверьте, я заслуживаю более вежливых выражений! Не нужно нигде терять присутствия духа, и если вы чем расстроены, – я догадываюсь чем, – то по крайней мере забываться не нужно… Вы ещё очень, очень молодой человек!..
– Да что мне, что вы старый? Эка невидаль! Ступайте прочь; чего вы тут бегаете?..
– Почему ж я старый? Какой же я старый? Конечно, по званию, но я не бегаю…
– Это и видно. Да убирайтесь же прочь…
– Нет, уж я с вами; вы мне не можете запретить; я тоже замешан; я с вами…
– Ну, так тише же, тише, молчать!..
Оба они взошли на крыльцо и поднялись на лестницу в третий этаж; было темнёхонько.
– Стойте! Есть у вас спички?
– Спички? Какие спички?
– Вы курите сигары?
– А, да! Есть, есть; здесь они, здесь; вот, постойте… – Господин в енотах засуетился.
– Фу, какой бестолков… чёрт! Кажется, эта дверь…
– Эта-эта-эта-эта-эта…
– Эта-эта-эта… что вы орёте? Тише!..
– Милостивый государь, я скрепя сердце… вы дерзкий человек, вот что!..
Вспыхнул огонь.
– Ну, так и есть, вот медная дощечка! Вот Бобыницын; видите: Бобыницын?..
– Вижу, вижу!
– Ти… ше! Что, потухла?
– Потухла.
– Нужно постучаться?
– Да, нужно! – отозвался господин в енотах.