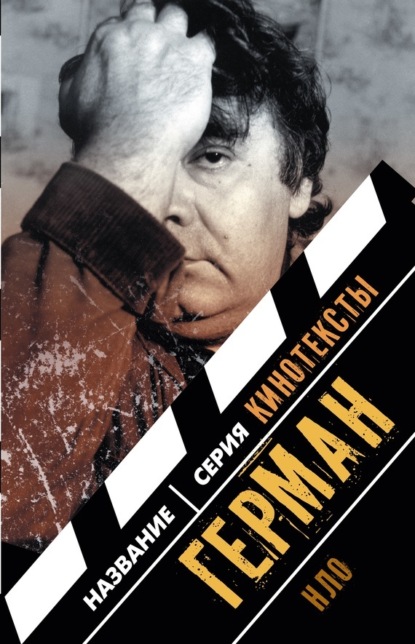Полная версия
Из глубины экрана. Интерпретация кинотекстов
С образом матери раннесталинская культура работает скорее по инерции, как с найденным когда-то удачным пропагандистским тропом, от которого жаль отказываться. Она занята активным конструированием фигуры отца – как в «Колыбельной» (1937) Дзиги Вертова, где Сталин предстает единственным мужчиной, спокойно царящим в самом центре вселенной, куда к нему со всех концов страны стекаются женщины фертильного возраста: некоторые уже с детьми, отцы которых не показаны, но зато сами дети то и дело оказываются в кадре вместе с матерью и Сталиным[44].
Если же в том или ином кинотексте мать все-таки оказывается на переднем плане, – как в «Последней ночи» (1936) Юлия Райзмана, – то она по инерции продолжает отрабатывать сценический типаж все той же Ниловны из горьковской «Матери», но только в еще более сниженном комико-идиллическом ключе. У Райзмана мать семейства Захаркиных, так до конца фильма и оставшаяся безымянной, потеряв за одну революционную ночь в Москве мужа и двоих сыновей из трех, с радостными ужимками бежит догонять колонну уходящих на фронт еще не начавшейся Гражданской войны революционных солдат. Бежит она, впрочем, не одна, а с только что разбуженным молодым солдатиком, которого три раза подряд называет «сынок», перемежая «побудочный» монолог обращением к последнему оставшемуся в живых сыну, который как раз и возглавляет колонну. Таким образом, все бойцы в символическом плане оказываются «сынками» одной матери, будучи замкнуты между двумя мужчинами, первым, сознательным революционным лидером (Петр, биологический старший сын героини) и последним, догоняющим, которого она только что в свои сыновья произвела. Сама же мать, никоим образом не претендуя на лидерство и сохраняя сугубо «домашние» и простонародные характеристики, подчеркнуто выполняет мобилизационную функцию по отношению к недостаточно сознательным – или просто уснувшим не вовремя – сыновьям.
3. Эксплуатация образа матери в советской военной пропаганде
Июнь 1941 года стал для сталинской пропаганды сеансом жесткой шоковой терапии, поскольку вся возводившаяся на протяжении предшествующего десятилетия легитимирующая конструкция, построенная вокруг образа непогрешимого, всеведущего и неподвижного отца, оказалась абсолютно неприменима в ситуации военной и гражданской катастрофы. Сталин резко и надолго исчезает из визуальной составляющей пропагандистской продукции, поскольку слишком велика была вероятность того, что реакция на этот привычный образ вызовет совсем не тот аффект, которому следовало быть[45]. Отец, оказавшийся обманутым (даже если следовать официальной советской версии о вероломном нападении) и неспособный прибегнуть к своей привычной роли – одним мановением брови, одним уверенным жестом руки решить все проблемы своих детей – взывает скорее не к обожанию и беспрекословному повиновению, а к бунту, к актуализации совсем иных, стайных способов кодировать актуальную ситуацию.
В итоге срабатывает «техника Агамемнона». Публично дискредитированный отец самоустраняется, и мобилизационная задача решается совершенно иными способами – пусть даже и в рамках прежней логики, через апелляцию к индивидуально-эмоциональному уровню ситуативного кодирования при посредстве кодов семейных.
Образ матери в собственно военных советских фильмах времен войны работает на формирование сугубо аффективной зрительской реакции при неочевидности идеологических и властных мотиваций. Впрочем, начать эту линию можно прямо с канонического плаката Ираклия Тоидзе «Родина-мать зовет» (1941). Понятно, что, в отличие от производства политического плаката и другой массовой тиражной продукции (газетная иллюстрация, листовка, карикатура и т. д.), процесс кинопроизводства требует гораздо большего времени – особенно если учесть обстоятельства, связанные с эвакуацией киностудий в безопасные районы страны[46]. Поэтому и полнометражные фильмы, посвященные сугубо военной тематике, начинают появляться с некоторым запозданием сравнительно с быстро меняющейся ситуацией на фронтах. Так, только в 1942 году на экраны выходит «Машенька» Юлия Райзмана, практически полностью снятая еще в довоенное время: финал картины пришлось переснимать уже в Алма-Ате с поправкой на новые реалии, но и он, как и сюжеты нескольких других фильмов 1941 года выпуска[47], привязан не к актуальным событиям, а к Финской войне. Картины же, по которым можно судить о пропагандистских задачах начального периода войны, выходят только к 1942-му, а то и к 1943 году[48].
«Она защищает Родину» (1943) Фридриха Эрмлера представляет собой чистый случай сугубо аффективного воздействия на потенциального зрителя. В начале фильма режиссер дает «ударную» сцену с нацистами, которые расстреливают грузовик с ранеными красноармейцами, отнимают у главной героини ребенка и давят его танком. Сцена снята в откровенно экспрессионистской эстетике, казалось бы, прочно забытой в СССР со времен «Арсенала» (1929) Александра Довженко и «Обломка империи» (1929) самого Эрмлера[49]. Психологическое воздействие усилено контрастом с предыдущей последовательностью сцен, дающих панораму «счастливой жизни в довоенной советской деревне» и выдержанных в совершенно другой стилистической манере, вполне совместимой с требованиями сталинского «большого стиля»: хотя и здесь экспрессионистские крупные планы, геометричность и динамика уже дают о себе знать, исподволь готовя переключение с одной эстетики на другую. Возгонка зрительского аффекта обеспечивается серией эмпатийных эпизодов, в ходе которой героиня совершает тщательно выстроенную внутреннюю эволюцию. Между абсолютно раздавленной и опустошенной женщиной, которая случайно натыкается в лесу на группу односельчан, и зловещей Эринией с четкой и всепоглощающей установкой на кровную месть, помещена великолепно задуманная и снятая интермедия, в центре которой стоит событие «смены лица».


«Она защищает Родину» (1943). Режиссер Фридрих Эрмлер, сценарист Алексей Каплер, оператор Владимир Рапопорт. В главной роли Вера Марецкая. Скриншот YouTube
Фильм по-авангардистски прямолинеен и направлен на трансляцию одного-единственного эмоционального месседжа, так что ради доходчивости и силы воздействия этого месседжа режиссер время от времени готов идти на риск и нарушать элементарную логическую связанность действий, производимых персонажами на экране, и произносимых этими персонажами реплик. Самая показательная в этом отношении сцена происходит вечером после первой, абсолютно стихийной акции будущего партизанского отряда: нападения на идущий через лес немецкой обоз. Среди своих обнаруживается слабое звено – эпизодический персонаж, который не только намерен сам вернуться в деревню и смириться с немецкой оккупацией, но и ведет откровенную антисоветскую пропаганду («Наелся я счастливой колхозной жизни по самое горло»). Когда он предпринимает попытку уйти, героиня, долго державшая мхатовскую паузу, подхватывает трофейный немецкий автомат и, не говоря ни слова, убивает его. После чего объявляет программу бескомпромиссного сопротивления врагу, которая заканчивается сентенцией совершенно парадоксальной в свете только что совершенного ею поступка: «А кто боится – не держим. Пусть уходит. Вот мое слово». Привычное для сталинской публичной культуры раздельное сосуществование дискурсивных и поведенческих практик, как правило, тщательно маскируемое, явлено здесь с подкупающей прямотой.
Выход на более широкие идеологически значимые контексты осуществляется через конструирование нового кредо. Центральной символической фигурой, одно имя которой должно обеспечить конечную победу над врагом и которая по этой причине не может «пасть», становится не Сталин, а Москва. Понятно, что к 1943 году, когда фильм вышел на экраны, неудача немецких войск при попытке взять Москву в конце 1941 года была предметом общего знания, что не могло не придавать словам героини пророческого статуса. Накопление аффекта в первой части фильма разрешается выходом на стандартное для семейного уровня ситуативного кодирования представление о полноте знания, доступной «взрослым» статусам, а замена отеческой фигуры на материнскую (в этом смысле Москва неизбежно превращается в «метрополию», «город-мать» в прямом смысле этого греческого понятия) переадресует эмпатию из публичных, политических контекстов – в контексты интимные, «домашние»[50].
В том же 1943 году советский зритель увидел фильм Марка Донского «Радуга». Фильм выглядит не менее схематичным, чем «Она защищает Родину», но принцип работы с ключевым образом матери здесь принципиально другой. Авторы фильма делают ставку на максимально широкий спектр возможных «эмоциональных якорей», перебирая варианты, как перебирает их цыганка, анализирующая спонтанные реакции случайного уличного клиента, которому собралась гадать. Одноименная повесть Ванды Василевской, по которой был снят фильм, представляет собой чистейший образец властного заказа: написанная в крайне сжатые сроки (едва ли не за месяц), она исходно должна была выполнять мобилизационную задачу, являясь, по сути, развернутой иллюстрацией к известному агитационному плакату «Воин Красной армии, спаси!»[51]. Что само по себе делает понятной структуру текста: набор предельно провокативных, «плакатных» ситуаций, каждая из которых являла собой максимально доходчивый exemplum той опасности, которую немецкие изверги представляли для оставшихся на оккупированной территории женщин и детей, нужно было просто скрепить между собой хоть сколько-нибудь последовательным сюжетом, способным удерживать читательское внимание.
Список этих exempla исчерпывает едва ли не все возможные варианты насилия над материнским чувством. В «Радуге» есть пожилая мать, потерявшая взрослого сына-бойца, по случайности принявшего смерть при отступлении через родную деревню. Есть мать среднего возраста, потерявшая сына-подростка, который пытался уйти к партизанам и которого немцы повесили посреди все той же деревни. Есть многодетная молодая мать, потерявшая малолетнего сына, застреленного немецким часовым при попытке передать хлеб арестованной односельчанке. Эта арестованная, в свою очередь, – партизанка, вернувшаяся в деревню в надежде на возможность родить ребенка в домашних условиях. Нужно ли говорить, что младенца на следующий же день после рождения убивает на глазах у матери немецкий офицер. И наконец, есть совсем уже крайний случай: деревенская красавица, которую насилуют трое солдат и которая считает себя бесповоротно оскверненной. Будущего ребенка она ненавидит и ждет его появления только для того, чтобы убить собственными руками.

Виктор Корецкий. «Воин Красной армии, спаси!» (1942). Из фондов ОГОНБ (Омской государственной областной научной библиотеки) им. А. С. Пушкина. Wikimedia.org
Причем все эти трагедии работают согласно все той же «технике Агамемнона»: спровоцированный аффект, адресованный к семейному уровню ситуативного кодирования, канализируется в побуждение к «правильному» действию в большом публичном поле. Каждая из подчеркнуто травматических ситуаций рано или поздно становится поводом для пафосного высказывания, где смысл, по большому счету, можно свести к одной и той же максиме: любую жертву, какой бы страшной она ни казалась здесь и сейчас, воспринимать нужно спокойно и уверенно, как личный вклад в неминуемую победу над врагом.
О какой бы то ни было психологической достоверности персонажей здесь говорить не приходится – они выполняют совершенно другую задачу. Мать, у которой только что застрелили маленького сына, не позволяет следующему по возрасту ребенку повторить самоубийственную попытку первого не потому, что боится за его жизнь, а потому, что еду передать все равно не удастся: и немцы теперь будут караулить внимательнее прежнего, да и хлеба попросту не осталось. Собственно, достоверность автора вообще не интересует – не только психологическая. У Ванды Василевской пойманную партизанку немцы голой гоняют по морозу, а потом запирают в сарае, где щели между досок настолько широкие, что можно просунуть руку. Одежды у нее нет, спать ей приходится на глиняном полу, вся спина у нее исколота немецкими штыками – но она не умирает ни от переохлаждения, ни от кровопотери и даже рожает на следующее утро вполне здорового ребенка, которого умудряется еще и греть теплом собственного тела. Боец Красной армии добегает до вражеской позиции на перебитой ноге, нижняя часть которой торчит перпендикулярно верхней, и умирает только после этого – и т. д.
Принцип работы над значимой деталью остается одним и тем же на протяжении всей повести, и эрмлеровский киноэкспрессионизм даже и близко недотягивает до здешних ужасов. Там, где Фридрих Эрмлер ограничивается танком, надвигающимся на ребенка, Ванда Василевская детально описывает череп младенца со входным отверстием от пули на затылке и с полностью снесенной лицевой частью – причем немцы еще и глумятся над младенческим трупом, многократно и мерзко. В конце концов они сбрасывают его в прорубь, несколько раз поддев на штык – и штыком же немецкий офицер закалывает саму партизанку, прежде чем читатель поэтапно ознакомится с процессом заталкивания человеческого тела в узкую прорубь. Что со всей очевидностью отсылает нас все к тому же визуальному источнику этого сюжета, к плакату «Воин Красной армии, спаси!», где самая очевидная угроза и матери, и ребенку исходит именно от немецкого штыка, являющего собой центр всей композиции – Василевская просто нагромождает отсылки к исходному образу и максимально насыщает их душераздирающими деталями за гранью всякой достоверности.
Марк Донской, с его барочной любовью к осмысленной детали и с его безупречным чувством драматической структуры высказывания, был, конечно, идеальной кандидатурой для экранизации этого материала, совершенно бездарного как беллетристика и вполне грамотно сделанного как манипулятивный инструмент. При крайне сжатых сроках кинопроизводства он умудряется сделать из рыхлой и катастрофически недостоверной литературной основы цельное кинематографическое высказывание, не утратив при этом главного – силы мобилизационного воздействия, основанного на эксплуатации семейного уровня ситуативного кодирования вообще и, прежде всего, образа матери.
Во-первых, он существенно скорректировал общую тональность. Резко экспрессивные сигналы в картине сведены к необходимому минимуму, оставшись только там, где того требует экранная ситуация: скажем, в реакции матери на убийство младенца. Лицо героини искажено ужасом, но сам выстрел остается за кадром, и труп ребенка зритель видит далее только в щадящем режиме – закутанным в одеяло, на руках у матери. Сцена убийства партизанки едва ли не полностью сводится к фигуре умолчания – на экране остается только темная речная вода, по которой через несколько секунд после автоматной очереди идет рябь. Никаких младенцев на штыках и торчащих из проруби женских ног здесь, конечно же, нет и быть не может. Зато в фильме появляется любовно прописанный быт, с ходиками и занавесочками, – и даже откровенно юмористический сюжет со стариком, который обыгрывает отсутствие «при немцах» принципиального различия между человеком и скотиной.
«Ударный» комплекс материнских образов перестает производить впечатление торопливого перебора всех возможных вариантов и выстраивается в логически выверенную иерархию с четко обозначенными верхней и нижней границами, для чего вводятся дополнительные законченные сцены, отсутствующие в литературном первоисточнике. Так, нижняя граница смыслов, сцепленных с образом матери, выстраивается вокруг Пуси, русской любовницы немецкого офицера, законченной оппортунистки, променявшей Родину на сытую жизнь[52]. Главный месседж этой роли обозначается в сцене разговора между ней и ее родной сестрой, сельской учительницей, которая, судя по всему, как-то связана с партизанами.


«Радуга» (1943). Режиссер Марк Донской, сценарист Ванда Василевская, оператор Бенцион Монастырский. В главной роли Наталия Ужвий. Скриншот YouTube
В повести Ванды Василевской встреча двух сестер носит совершенно проходной характер, имеет место на улице, у колодца, и заканчивается короткой вспышкой ненависти и полным срывом коммуникации. Марк Донской сохраняет сцену у колодца в качестве декоративного элемента, но придумывает еще одну, интерьерную, с массой говорящих деталей и тщательно расставленными акцентами. Пытаясь – по заданию своего немецкого любовника – выведать у сестры информацию о партизанах, Пуся приносит ей «датские консервы, голландский сыр, французские бисквиты, сахар, сгущенное молоко и шоколад для Ниночки»[53], но натыкается сперва на ледяное молчание, а потом на риторический вопрос: «Неужели нас с тобой родила одна мать?» Причем монополией на использование этого слова обладает исключительно «правильная» сестра. Едва сестра «неправильная» пытается произнести словосочетание «наша мать…», в ответ звучит: «Не смей вспоминать о матери! У тебя не было русской матери!»
Пуся бесповоротно утрачивает доступ к семейному уровню ситуативного кодирования, а вместе с ним и возможность не только обладать матерью, но и стать таковой – у нее единственной из множества женских персонажей фильма нет детей[54]. Так же, как нет матерей и у немцев: в финале главная героиня картины[55] предрекает, что от этих извергов отвернутся «их бабы и дети» – о матерях речь не идет принципиально, а из естественного порядка прочих семейных связей и статусов они будут исключены. При этом все русские люди как раз представляют собой единую огромную семью, и основой этой семьи являются отношения мать – сын. Незадолго до смерти партизанка говорит о том, что у нее не один ребенок, а множество, и все они – сыновья. В эпизоде встречи главной героини с разведгруппой регулярной Красной армии слово «мать» звучит едва ли не чаще, чем все остальные слова, вместе взятые.
Сексуальность в фильме отчетливо противопоставлена семейному кодированию. Пуся – единственный отчетливо эротизированный персонаж: она кокетничает, наряжается, демонстрирует белье, подчеркнуто трогает себя и своих партнеров по коммуникации, целыми днями валяется в разобранной постели и всячески привлекает к себе мужское внимание. Отчетливый акцент на материнско-сыновних отношениях переводит любые сексуальные коннотации в разряд неподобающих: к примеру, из фильма полностью исчезает сюжетная линия с изнасилованной и вынашивающей немецкого ребенка деревенской красавицей – путаница в категориях «свое – чужое» затемняла бы общую стройную логику высказывания.
Итак, в качестве нижней границы иерархического порядка, связанного с образом матери, у Марка Донского выступает запрет на деторождение, сцепленный с тематическими полями предательства и открытой сексуальности. Любопытно, что и верхняя граница обозначается в сцене, целиком построенной на теме предательства и наказания за этот смертный грех. Тайный суд над коллаборационистом заканчивается попыткой последнего апеллировать к божественным инстанциям. Однако персонаж, скрывавшийся весь фильм под маской комического старика и оказавшийся, как и следовало ожидать, одним из партизан, сперва запрещает ему креститься, а затем, в ответ на фразу «Христом-богом прошу…», дает предателю суровую отповедь: «Ты бога не трогай! Это не твой бог! Это наш бог. Наш! Он немцам не продается. Не трогай бога. Не проси». Но пальцем он при этом указывает не на икону с изображением Спаса, как следовало бы ожидать. На стене висит икона Богородицы-Одигитрии, «Путь указующей». Парад матерей, каждая из которых теряет сына, венчается сакральной фигурой, снабженной четкими указаниями на необходимость сделать единственно правильный выбор.
«Неправильный» выбор, предполагающий любые формы сотрудничества с врагом, карается жестоко и беспощадно: старосту убивают партизаны, Пусю – армейский разведчик, по случайности оказавшийся ее мужем. Примечательно, что обе сцены происходят в узком домашнем пространстве: предатель должен осквернить собой само понятие «дома». При этом наказание пленных немцев есть дело всенародное и демонстративное. Однако выплеск гнева на этих насильников и убийц – после роскошно снятой и производящей на зрителя мощное психологическое воздействие сцены «бабьего бунта» – быстро купируется, и они отделываются «мерами морального воздействия». Таким образом, мера преступления и наказания становится еще одной границей, отделяющей «своих» предателей от немцев: первые, будучи принципиально исключены из поля действия семейного уровня ситуативного кодирования с неотъемлемыми от него иерархиями априорных ценностей, попросту выводятся за рамки человеческой морали и человеческого статуса как такового.
Очевидные богородичные коннотации при обозначении высшей границы «материнских» смыслов не должны удивлять – 8 сентября 1943 года состоялся инспирированный лично Сталиным Архиерейский собор РПЦ, выбравший нового патриарха, восстановивший Священный синод и отлучивший от церкви всякого «перешедшего на сторону фашизма». Марк Донской, в отличие от Ванды Василевской, у которой зимняя радуга остается всего лишь «добрым знаком» с тщательно замаскированной библейской аллюзивностью, получает в этом отношении полную свободу, и радуга снова становится знаком завета между христианским Богом и избранным народом, под которым, само собой, подразумевается в фильме народ русский. А связь материнских образов в фильме с архетипической фигурой Богородицы приобретает дополнительные основания.
Вообще, складывается впечатление, что Марк Донской внимательно работал с уже имеющимся в памяти потенциального зрителя набором визуальных образов как при подборе актеров, так и при построении мизансцен: имея в виду прежде всего уже сложившийся и успевший стать непременным элементом советского публичного пространства образный ряд военного агитационного плаката. Именно это обстоятельство может объяснить, казалось бы, неочевидные решения, вроде выбора молоденькой Анны Лисянской на роль многодетной Малючихи, чей десятилетний сын погибает при попытке передать хлеб пленной партизанке. Актриса совсем не похожа на деревенскую женщину средних лет, но зато совпадает по типажу с центральным образом плаката «Отомсти!» Дементия Шмаринова (1942). Проходная в литературном первоисточнике, но детально прописанная в фильме сцена с вторжением немецкого солдата в дом с маленькими детьми запоминается в том числе и за счет колоритной зловещей фигуры оккупанта, который в кульминационный момент имитирует убийство ребенка. Сам этот образ[56] едва ли не буквально списан с плаката Леонида Голованова «За честь жены, за жизнь детей, за счастье родины своей, за нивы наши и луга – убей захватчика-врага!» (1942). В свою очередь, фильм Марка Донского оказал воздействие на дальнейшую плакатную традицию. Так, например, трудно не увидеть в уже упоминавшемся ранее плакате Шмаринова «Смерть немцам-душегубам!» (1944) прямую отсылку к соответствующей сцене в «Радуге».
4. Послевоенная монументальность и подавление аффекта
Окончание войны отменило для фигуры Сталина, снова занявшей привычное центральное место в советской пропагандистской картине мира, необходимость в любых дополнительных источниках легитимации. Победа позволила списать все промахи и неудачи начала войны как на «вероломство» агрессора, так и на гениальный сталинский план по заманиванию противника вглубь своей территории – ради чего, собственно, и была спродуцирована сама концепция Великой Отечественной войны, символически повторившей мифогенное событие Отечественной войны 1812 года «на новом историческом уровне».
В отличие от 1930-х годов новый акцентированный перенос внимания на фигуру «отца народов» и «лучшего друга детей», не привел к фактическому вытеснению фигуры материнской. Инерция, наработанная на протяжении первой половины 1940-х, была слишком сильной, а эмпатийный заряд соответствующей образности оказался слишком действенным и ценным для того, чтобы окончательно списывать этот пропагандистский ресурс со счетов. «Мать» не исчезает и даже не оттесняется – как в 1930-е – на роль третьестепенного служебного персонажа, но претерпевает значимые и весьма показательные изменения: застывает в статуарную символическую фигуру, призванную дополнять и оттенять фигуру сталинскую, столь же неподвижно возвышающуюся в самом центре бытия.
Наглядной иллюстрацией такого положения вещей могут служить две картины Федора Шурпина, писавшиеся одновременно и фактически представляющие собой своего рода диптих, «Мать» (1947) и «Утро нашей Родины» (1946–1948). Вторая из них, самым очевидным образом приуроченная к сталинскому юбилею 1949 года и принесшая автору одноименную премию второй степени, стала едва ли не самым узнаваемым и тиражируемым портретом вождя и учителя за всю историю живописной Сталинианы. Сталин, взятый в три четверти, «американским» планом, в белом френче без погон генералиссимуса, без наград и с простой суконной шинелью, перекинутой через правую руку, стоит на фоне вспаханного поля и смотрит в привычную фокальную точку, расположенную за рамками изображения. Темная материя шинели, заслоняющая белую ткань френча, рифмуется с коричневыми и темно-зелеными тонами поля, при том, что верхняя часть фигуры, освобожденная ото всякой непосредственной связи с профанным земным миром и ярко освещенная солнцем, четко высится на фоне чистого утреннего неба. Зрителю предложена точка зрения снизу вверх, как если бы он встал на колени, удостоившись сей величественной эпифании – или как если бы он был ребенком.