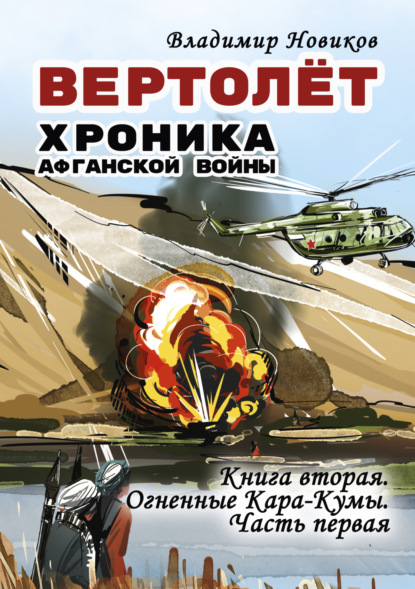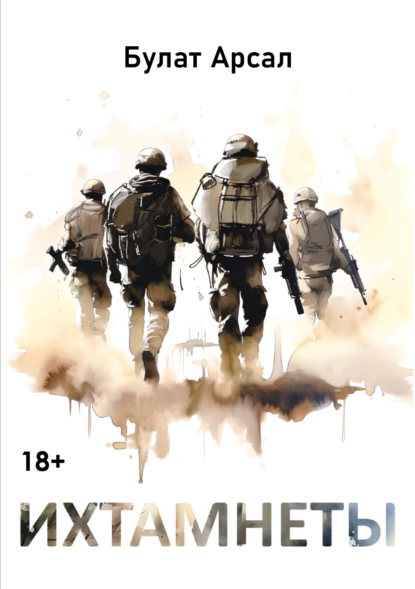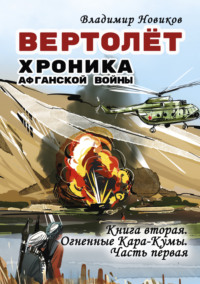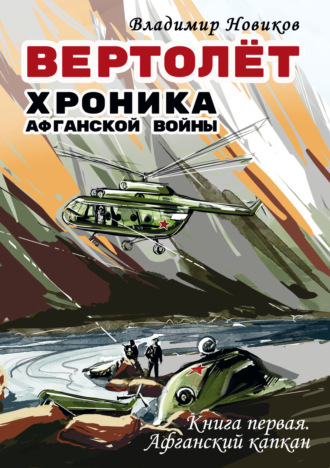
Полная версия
Вертолёт. Хроника Афганской войны. Книга первая. Афганский капкан (1979–1981)
Ванюшин весело засмеялся.
– Да я смотрю, ты юморист, Лоскутов. Это хорошо, значит, мы сработаемся. Шутки, юмор и сатира у нас в отделе поощряются. Кстати, расскажи мне кратко, как ты в Воркуте открыл, освоил и умудрился всех научить летать от истинного меридиана аэродрома взлёта?
– Я же при вас в Воркуте был на стажировке из академии. Полетал со всеми экипажами и понял, что никто не учитывает даже азимутальные поправки на схождение меридианов при полётах вдоль северной воздушной трассы. В академии я напросился на консультацию к начальнику штурманского факультета, бывшему главному штурману ВВС генерал-лейтенанту Лавскому. Вот с его подачи мои научные исследования этой проблемы и начались. И закончились выбором лучшего способа полёта для наших типов самолётов и вертолётов, но с установкой на каждый самолёт и вертолёт дополнительно гирополукомпаса ГПК-52 и астрокомпаса АК-53.
Но тут зазвонил какой-то чёрный телефон с блестящим гербом вместо цифрового диска. Полковник Ванюшин, не поднимая трубку, сказал:
– Идите в свой штурманский кабинет, устраивайтесь и обживайтесь. Все вопросы пока решайте с полковником Кунаевым. Потом договорим про полёты от истинного меридиана.
– Есть, товарищ полковник.
Располагался авиационный отдел на девятом этаже солидного старинного здания по улице Дзержинского, дом два. На девятом, если считать с подвальных этажей. Тех самых печально известных кабинетов и подвалов Лубянки. Потому что видимых со стороны площади Дзержинского этажей в этом здании было всего шесть. Серёжка на первом же году службы узнает, что на нижних этажах, в бывших подвалах Лубянки, уже давно нет ни кабинетов, ни камер, ни казематов. Там оборудованы огромные спортзалы, теннисные корты, стрелковый тир и склады самых различных вспомогательных, технических и обеспечивающих служб.
В конце семидесятых в этом здании располагался Комитет государственной безопасности СССР, а кроме него – Главное управление пограничных войск со всеми его управлениями и отделами. И весь личный состав авиационного отдела ГУПВ размещался на девятом этаже – в четырёх кабинетах, что были рядом. Кабинеты с широкими окнами, выходящими на Лубянскую площадь с памятником Ф. Э. Дзержинскому. Справа хорошо видно здание магазина «Детский мир». Слева – Политехнический музей. Впереди узкая улица 25 Октября. Справа от неё – «Охотный ряд». Дальше видна площадь возле Большого театра и краешек гостиницы «Москва». И чуть поодаль – красные зубчатые кирпичные стены и рубиновые звёзды Кремля. И верхушка храма Василия Блаженного видна, и ещё десятки сверкающих позолотой куполов… Серёжка сразу же подумал: «Кабинет у меня почти как у министра, с видом на Кремль. Вот только жаль, что всю Красную площадь из окна не видно. Только краешек. Но то, что Москва – златоглавая, прекрасно видно даже из моего скромного кабинета».
Кабинет начальника авиаотдела генерала Рохлова был стандартного размера, шесть на четыре метра, не больше, как и большинство комнат в этом здании. Обставлен был строго. Стены до высоты роста человека отделаны панелями под дуб, окна всегда наполовину зашторены и с закрытой форточкой. Два широких, опять же под дуб отделанных стола, поставленных буквой «Т», с пятью-шестью телефонами и двумя стульями для посетителей. Вдоль длинных стен расставлено по шесть стульев с обеих сторон. Сейф, зеркало, книжный шкаф, простой деревянный шкаф для верхней одежды – вот и всё спартанское убранство этого кабинета. И два портрета на стенах – Феликса Эдмундовича Дзержинского и Леонида Ильича Брежнева.
И всё же кабинет этот был просторным. В трёх других кабинетах авиаотдела стояло по пять-шесть таких же массивных, под дуб отделанных и покрашенных лаком столов. Но в последние два года авиаотдел заметно расширился. Год назад в штате было четырнадцать человек, теперь – в наличии уже восемнадцать. А по штату двадцать четыре. Поэтому с рабочими местами и столами для прибывающих офицеров было туговато.
Лётчики-инспекторы во главе с заместителем начальника отдела полковником Ванюшиным ютились в перегруженной комнате. Кроме массивного стола Ванюшина возле окна – ещё четыре, расставленных по кабинету так, чтобы поместились все пять столов. Два инспектора по вертолётам – полковник Василий Зерин и подполковник Игорь Антипов, и два инспектора по самолётам – подполковник Александр Валаев и майор Юрий Мирошниченко, который должен был вскоре прибыть.
У штурманов пока был самый незагруженный кабинет. Всего четыре стола. Два сдвинутых и массивных – возле окна: Александра Кунаева и Анатолия Пальчуна. И два поменьше размером, ближе к двери. Один Николая Богомолова, он тогда был старшим офицером по воздушно-огневой подготовке. А за другой свободный стол и усадили майора Лоскутова. И надо же такому чуду случиться – усадили на тот самый стул и за тот самый стол, за которым он сидел перед тогдашним главным штурманом полковником Виктором Ткаченко на собеседовании, ещё перед назначением в Воркуту после окончания академии. Сергей запомнил этот стол на всю жизнь по дубовой текстуре дерева и надписи, нацарапанной кем-то по полировке сбоку, на торце: «Дай Бог удачи».
По наследству этот удачливый стол и стул достались Лоскутову от полковника Кунаева. Сергей погладил крышку стола, мысленно поздоровавшись со старым знакомым. В этот день он не раз возвращался к простой мысли: как всё же в жизни лихо сюжет закручен. Действительно, получилось так, как сказал когда-то ему на собеседовании после окончания академии и перед назначением штурманом арктической эскадрильи Виктор Ильич Ткаченко:
– Обживайте, капитан Лоскутов, этот стул и стол, авось ещё они и пригодятся когда-нибудь в будущем.
И ведь пригодились. Случайность это или некая кем-то свыше спланированная закономерность? Трудно объяснить даже самому себе. Но сидел он потом за этим столом и на этом стуле в общей сложности более семи лет, будучи инспектором-штурманом авиа отдела ГУПВ…
Хуже всего ситуация была в кабинете у инженеров. Ещё год назад их было по штату всего пять, а стало семь человек. Во главе с заместителем начальника авиаотдела по инженерно-авиационной службе полковником Николаем Ивановичем Тумановым: Леонид Абросин, Степан Зносок, Владимир Иванов, Валерий Стефановский, Геннадий Федоренко и Александр Махов. И ожидалось прибытие ещё двух офицеров, уже назначенных приказом. Несколько человек сидели по двое за одним столом. Все проходы заняты стульями и сейфами. Скученно и душно. Работать неудобно, все друг друга отвлекают. Телефонные звонки надолго выбивают из колеи.
В отделе шутили: для того чтобы были свободные места в кабинетах для всех офицеров, каждый день необходимо, чтобы треть отдела была в командировках. Или ещё смешнее: надо лётчикам вдвое увеличить отпуска. Тогда и будет на всех места хватать. Хотя знали, что вопрос об увеличении числа кабинетов стоит давно. Но пока не решается. И понятно почему – весь пограничный Главк расширяется.
Сергей рассказал Кунаеву и Богомолову о содержании беседы с полковником Ванюшиным. Умолчал только об игре в храп. И что тот посоветовал ему по всем вопросам на первых порах обращаться к полковнику Кунаеву.
– Вот я и хотел бы, уважаемый Александр Иванович, спросить у вас совета как у старшего и опытного товарища: с чего начинать службу в этой должности и за этим столом? На вашем бывшем рабочем месте.
Полковник Кунаев вначале пошутил. Что-то вроде того, что каждый эти вопросы решает индивидуально, в зависимости от уровня умственного развития и собственных амбиций.
Но видя, что Серёжка ждёт ответа, задумавшись, сказал:
– Присматривайся, Сергей, на первых порах: как, кому и что мы отвечаем на телефонные звонки. И знай: возьмёшь трубку руками, а побежишь исполнять ногами. Купи и заведи себе для начала две тетради: секретную в секретной части и простую для несекретных записей. Записывай все задачи и вводные от всевозможных начальников. Ибо давно известно, что самый плохонький карандаш всегда лучше самой хорошей памяти.
Сергей молчал.
Кунаев посмотрел сверху вниз на свою молодую смену и, подумав, продолжил:
– Самое главное, Сергей Петрович, для тебя сейчас – и за что приходится нам, всем штурманам авиаотдела, отвечать и страдать – это, пожалуй, выдвижение офицеров из авиачастей на вышестоящие должности. У Пальчуна, конечно, все данные по штурманам есть. Я их ему сам передал. Но я и тебе тоже советую завести и постоянно освежать списки всех штурманов самолётов и лётчиков-штурманов вертолётов во всех двадцати наших авиачастях на границе. Эти списки «резерва на выдвижение» ты должен обновлять каждый год и постоянно знать все изменения и передвижки за прошедший год. Из каждой части, где будешь в командировке, для себя и твоего начальника Пальчуна ты должен постоянно привозить свежие и обновлённые данные по штурманам частей, эскадрилий, отрядов и звеньев. Чтобы в любой момент быть готовым предложить начальнику отдела две-три кандидатуры на повышение из любой нашей части в любую другую часть.
Видя, что Лоскутов «не въехал» в суть дела, Кунаев уточнил:
– Потому что обычно один из вас будет на месте, в Главке, а другой в это время будет в командировке, на границе. И как часто было у нас с Ткаченко: главный штурман в командировке, а я должен срочно искать кандидатуры для замещения десятка вакантных должностей. И цепочку из трёх-четырёх штурманов сдвигать. А это не самое простое дело. За них ты отвечаешь точно так же, как и за себя самого. Ну, и сам ты должен разумно следить, чтобы и застоя в частях не было, чтобы всегда три-четыре опытных штурмана-инструктора в каждой части было. Для начала, пожалуй, этого хватит. Всё остальное придёт к тебе по мере освоения должности.
* * *Через неделю вышел из отпуска генерал Рохлов. Занятый делами и куда-то спешащий, он зашёл в кабинет штурманов, поздоровался со всеми за руку. Дал команду, чтобы полковник Кунаев «поруководил войсками» в его кабинете, пока он не придёт с совещания. И, поздоровавшись, мимоходом спросил у Лоскутова:
– Как устроился, есть ли нерешённые вопросы?
– Всё нормально, товарищ генерал. Стол, стул, телефон и сейф у меня уже есть. Остальное, как говорят мои старшие товарищи, приложится.
– Хорошо, когда всё нормально. Разберёмся по ходу дела. Готовься к командировке в Алма-Ату в начале октября. Будем тренироваться в полётах на Ми-8 в горах, проверять готовность лётного состава к полётам и слетаем на Мургаб.
Кстати, в главном своём совете «молодой смене» полковник Кунаев оказался совершенно прав. Хорошо, что он вовремя Лоскутова предупредил, а тот внял этому совету и заранее подготовился. Уже через пару месяцев, когда полковник Пальчун был в командировке, начальник отдела генерал Рохлов вызвал Лоскутова в кабинет и поставил прямой вопрос:
– Лоскутов, кого из опытных штурманов из авиачастей будем назначать в первый экипаж самолёта Ил-76?
– Товарищ генерал, разрешите уточнить, из какой части?
– Мне всё равно, из какой части ты его найдёшь или возьмёшь. Срочно нужна кандидатура молодого, грамотного, перспективного, способного освоить самый большой самолёт в нашей авиации. Он должен быть с высшим училищем и штурманом первого класса, чтобы включить его в список экипажа на переучивание и послать заявку в Центр подготовки лётного состава ВТА в Иваново. На февраль-март следующего года. Для информации тебе: командиром экипажа будет майор Орлов из Владивостока, помощником командира корабля – капитан Хайруллин с Сахалина. Инженеров и техников нам даст сейчас полковник Зносок.
Посмотрев на стоящего перед ним майора, генерал сказал:
– У тебя максимум полчаса на размышления.
Видя лёгкую озабоченность на лице подчинённого, генерал уже другим, совещательным тоном добавил:
–Лоскутов, я бы на твоём месте не мудрствовал лукаво, а немного пощипал Воркуту. Ты своих штурманов хорошо знаешь, они у тебя все первоклассные. К тому же по всему Северу полетали. От Мурманска до Анадыря. От истинного меридиана умеют летать на острова и вглубь Арктики, ориентируясь по ГПК[10] и астрокомпасу. Звёзды даже «считать» умеют. Они мне в последней северной командировке очень даже понравились. Особенно как «зайчики» от Солнца, Луны и звёзд по астрокомпасу ловят. Даже мне показали, как это делается. У нас в своё время такого интересного занятия не было… Короче, через полчаса жду данные кандидатуры по форме бланка-заявки, который возьмите у Валаева или у Зноска.
– Есть, товарищ генерал. Разрешите идти.
– Идите.
Пришёл Сергей к себе в кабинет и стал размышлять. Своих воркутинских штурманов он действительно знал хорошо. В требования генерала укладывались Мелешко, Беспалый и Кононов. Семёнов и Рыкованов не оканчивали высших училищ. Титов и Рубцов пока второго класса, они тоже отпадают. Остальные – выпускники позапрошлого и прошлого года, молодые и зелёные.
Из этой троицы самый старший – штурман авиаотряда капитан Виктор Мелешко. Семьдесят четвёртого года выпуска из Ворошиловградского высшего училища. Больше пяти лет летает на Севере. Несколько медлительный. Характер такой – флегматичный. Но зубастый стал, даже поспорить с флаг-штурманом на последней проверке в воздухе умудрился. По поводу последовательности работы на самом длинном этапе маршрута. В шестьсот километров, между Хатангой и Тикси. Это неплохо, значит, уверенность в себе появилась. Опыт появился.
Беззубому штурману на таком большом корабле делать нечего. К тому же он, Мелешко, в академию не сможет поступать. По физическим возможностям. В училище штангой занимался. Вены на ногах расширенные. Не пройдёт врачебно-лётную комиссию точно. Его доктора уже цепляли. К поступающим и слушателям в Военно-воздушную академию требования жёсткие. А вот живчики Беспалый и Кононов в академию смогут поступить. Пусть они и поступают, тоже нужное дело. Остаётся одна кандидатура – капитана Мелешко.
Эту кандидатуру Лоскутов и предложил через полчаса генералу. Виктор Мелешко и прошёл в список первого экипажа самолёта Ил-76 в авиации погранвойск. И надо сказать, что он не подвёл. В апреле восьмидесятого первый экипаж закончил теоретическое и практическое переучивание, получил в Ташкенте первый самолёт Ил-76Т и перегнал его в Иваново. Где на нём и проходил практическое обучение у армейских инструкторов.
А после воркутинских учебных сборов руководящего состава авиации погранвойск в семьдесят восьмом году были разработаны материалы по проведению лётно-тактических учений (ЛТУ) в каждой авиачасти. И в течение 1979–1980 годов учения были проведены. Сергей видел все эти документы на столе неофициального начальника штаба авиаотдела полковника Кунаева. Он их изучал, анализировал, обобщал и после утверждения начальником авиаотдела высылал обратно в части. С замечаниями по устранению и с рекомендациями по улучшению.
После этого в частях, в соответствии с указанием начальника авиаотдела ГУПВ, ежеквартально стали проводиться учебные полигонные стрельбы, пуски ракет и бомбометания на тактическом фоне. С обязательными маршрутными полётами и высадкой десан тов на незнакомые и необорудованные площадки. Благодаря этим стрельбам и бомбометаниям в частях появился невиданный ранее интерес к боевому применению авиационного вооружения. И резко повысился уровень классности лётного состава, появилось гораздо больше первоклассных лётчиков и штурманов. И чего вообще раньше не было в авиации погранвойск – появились лётчики-снайперы и штурманы-снайперы.
Николай Алексеевич Рохлов совсем недавно – в мае этого, семьдесят девятого, года – получил воинское звание генерал-майор и вскоре стал первым «Заслуженным военным лётчиком СССР» в авиации погранвойск. За год облетал все свои авиачасти по всему периметру государственной границы. И познакомился со всеми начальниками войск погранокругов и их заместителями, с командирами авиачастей и их заместителями. Ну и с районами полётов и охраняемыми участками авиачастей. Известно от старших товарищей, что он долго работал в 12-м Тбилисском отдельном учебном авиаполку. Выяснил возможности полка по переучиванию различных категорий лётного состава. И прежде всего – на вертолёт Ми-8т. В результате появилась программа, обязывающая учебный авиаполк закончить переучивание оставшегося лётного состава трёх авиачастей погранвойск к концу 1979 – началу 1980 года.
В авиаотдел Главка генерал Рохлов стал брать не только образованную, но и проявившую себя на деле молодёжь. Полковник Александр Евдокимов, майор Александр Махов, майор Николай Богомолов, подполковник Игорь Антипов, майор Юрий Фролов, майор Иван Ключник, майор Юрий Мирошниченко, майор Владимир Новиков и другие. Это резкое омоложение инспекторского состава сразу внесло свежую струю в работу авиаотдела, вырисо валась чёткая система преемственности и передачи опыта от старшего поколения к молодому.
И этот «баланс сил» в центральном руководящем органе авиации погранвойск – молодых, среднего и старшего возраста различных категорий авиационных специалистов – в руководстве авиачастями, в авиаотделах пограничных округов и Главного управления погранвойск сохранялся генералом Рохловым до конца его службы. Авиационный отдел благодаря Рохлову стал расширяться, появились новые должности. В том числе – начальники службы безопасности полётов, авиационной поисково-спасательной службы, парашютно-десантной службы, огневой и тактической подготовки, аэрофотослужбы, главный инженер по самолётостроению, главные инженеры по авиационному и радиоэлектронному оборудованию, главный инженер по ремонту авиатехники и другие.
Глава 2. Балтийская лужа

1979 год. Пересъём карты. Фрагмент карты севера Европы и Балтийского моря. Полетавшие на северах и морях Дальнего Востока пограничные летчики, переведённые в Прибалтику, шутя называли это море «Балтийской лужей» или «Синим лебедем», летящим на восток – его контуры хорошо видны здесь
7 сентября 1979 года.
И начались у Серёжки ежемесячные двухнедельные командировки во все стороны нашей необъятной страны. Это было знакомство с авиачастями, где он ещё не бывал. Освоение новых районов полётов. Или одного большого района полётов, если понимать под ним весь Советский Союз. И правыми оказались уважаемые начальники. Они перед назначением в Москву убеждали Лоскутова, что летать в командировки по всем границам нашей страны придётся часто. А он, чудак, ещё и сомневался. Летать, мол, не дадут. Выходит, сомневался совершенно напрасно.
Первая командировка майора Лоскутова в войска в качестве инспектора-штурмана была в Прибалтику. В Раквере и в Ригу, на десять дней, уже в начале сентября семьдесят девятого. Для приёма зачётов и проверки лётного состава 20-й отдельной авиаэскадрильи на класс. Старшим группы был инспектор-лётчик, уже претендент для назначение на должность начальника службы безопасности полётов авиации погранвойск подполковник Александр Яковлевич Валаев. Инженером – подполковник Леонид Александрович Абросин. Третьим был штурман – майор Лоскутов. Минимальный состав инспекторской группы для приёма на класс: лётчик, штурман и инженер.
Судьба полковника Валаева
…Нигде так быстро и близко не знакомятся лётчики, как в совместных служебных, а потом и боевых командировках. Времени – вагон и маленькая тележка, чтобы обо всём поговорить, спросить, выслушать, да и о себе рассказать, если спросят. Сразу понимаешь, кто есть кто и кто чем дышит. Вот полковник Валаев: прямой и откровенный, опытный и авторитетный. Знакомы они были уже года три-четыре, он служил в Воркуте ещё до прибытия Лоскутова и каждый год прилетал в Воркуту, обычно в ноябре-декабре, для налёта и подтверждения класса. Вместе по всем северам летали.
– Первое время после перевода из ВВС в погранвойска ходил как в воду опущенный, – говорил Александр Яковлевич. – Казались эти перемены какой-то нелепостью. За что такое наказание? Зачем в училище три года было учить на бомбёра? И за пять лет в боевом полку подготовить лётчика, настоящего воздушного бойца? Чтобы потом снова посадить на фанерный тихоход, кукурузник довоенных времён? На дедушку авиации По-2. Хватило бы и трёх месяцев ДОСААФа для обучения на этом патриархе авиации.
Однако летать в туркменском Мары в те времена приходилось много, практически ежедневно. Да и сама пограничная служба была интересная, необычная. Воздушные разведки и поиски, наведения и погони, стрельбы, задержания нарушителей. Дежурства и вылеты по тревоге, учения. Внезапные командировки во все погранотряды по всему громадному Среднеазиатскому погранокругу. От Каспийского моря до горного Памира.
Александр Яковлевич с большой долей присущего ему природного юмора вспоминал, как его экипаж впервые обнаружил и задержал нарушителей границы. За что он получил свою первую серьёзную пограничную награду – медаль «За отличие в охране государственной границы СССР». Но не только медаль он получил. Было это на самолёте По-2, на участке Серахского погранотряда в самое жаркое время 1958 года. В начале июля. И в самое жаркое время суток – в полдень. На улице пекло, асфальт плавился. На небе ни облачка, температура под пятьдесят в тени.
Экипаж с утра сидел на полевом аэродроме Кушка возле самолёта в готовности номер один к вылету. Наконец приехал на аэродром начальник отряда и приказал вылетать. Но сначала подробно по карте проинструктировал экипаж и начальника погранзаставы – о районе ожидаемого нарушения границы, об известных и предполагаемых маршрутах нарушителей, о расстановке и действиях пограннарядов. И вместе со штурманом Алексеем Чураковым в заднюю кабину командир посадил начальника той самой заставы, в чьей зоне ответственности ожидалось нарушение.
Александр Валаев даже тридцать лет спустя помнил его. Старший лейтенант Астафьев. Этот боевой начальник заставы прекрасно знал свой участок, методы нарушителей и местность. Он безошибочно вывел лётчиков в нужную точку. Сам вёл связь по рации с отрядом и соседними заставами.
Начальник отряда тоже не ошибся. Он имел серьёзную информацию о нарушениях границы на стыке двух застав – причём в самое жаркое время дня, когда в раскалённой туркменской пустыне замирает вся жизнь. Готовилось двойное нарушение границы, так называемый бартерный товарообмен. С нашей стороны два местных чабана уже за контрольно-следовой полосой гнали три десятка колхозных баранов. А с другой стороны границы, как потом выяснилось, им передали около десятка небольших мешочков. Причём не с фисташковыми орешками, как они потом утверждали, а под их видом – с опиумом в брикетах. И довольно большая партия, около семидесяти килограммов.
Увидев с самолёта этих менял-контрабандистов, начальник заставы возбуждённо спросил:
– Можешь ли, командир, прямо возле них приземлиться?
– Если надо, то почему и не приземлиться? Попробуем.
Подыскав ближайший такыр[11], старший лейтенант Валаев посадил самолёт на глиняную потрескавшуюся корку. Развернулся и, не выключая двигатель, остановился, предполагая и взлететь по своей же колее. Так безопаснее. Начальник заставы попросил подождать и поддерживать связь по рации. А сам с пистолетом в руках через барханы побежал к чабанам.
Но Валаев и Чураков, посовещавшись, взлетели. Поняли, что если не вмешаются, то нарушители уйдут восвояси. Ищи их потом как ветра в поле. Брать-то надо на месте преступления. И, летая предельно низко над нарушителями границы, имитируя атаки для стрельбы, экипаж заставил их лечь на землю. Бараны с испугу сначала разбежались в стороны, а затем дружно и быстро собрались и сами побежали обратно, в сторону дома, на нашу территорию.
Через двадцать минут появился начальник заставы и пограничные наряды. Они и задержали нарушителей с обеих сторон. И стадо баранов, и мешки с опиумом – вещдоки – были конфискованы. Баранов эти же чабаны под конвоем пограничников погнали обратно в колхоз. А начальник заставы отконвоировал нарушителей границы с той стороны на свою заставу.
В общем, старший лейтенант Валаев обратно вместо начальника заставы привёз в Серахс, как потом взвесили, семьдесят пять килограммов опиума-сырца. Начальник отряда уже знал обстановку и ожидал самолёт на аэродроме. Объявил экипажу благодарность. И приказал начальнику продслужбы отряда доставить одного барашка экипажу для шашлыка. Вот поэтому и улыбается всегда Александр Яковлевич, вспоминая эту забавную и давнишнюю историю. Кроме медали – ещё и барашек для шашлыка в награду экипажу.
Серьёзного и грамотного лётчика в полку сразу приметили. В 1959 году командиры переводят Валаева на самолёт Ли-2 вторым пилотом к опытному и знаменитому уже в то время капитану Вадиму Пионтковскому. Знаменит он был мастерскими полётами в высокогорных районах Таджикистана, по самой высокогорной воздушной трассе Душанбе – Хорог. Для молодого лётчика это была настоящая школа полётов.
Летали много, в среднем по пятьсот часов в год. Такой налёт в авиачастях ВВС в то время лётчикам и не снился. И что особенно нравилось Валаеву, так это усложнённые взлёты, заходы и посадки. Заходы на посадку – всегда под шторками[12] до высоты принятия решения для ухода на второй круг, до высоты пятидесяти метров. Именно эти многолетние и систематические тренировки закалили и сформировали в нём лётчика. Он мастерски выполнял посадки с первого захода в любых сложных метеоусловиях. И пригодилось это умение ему на всю оставшуюся лётную жизнь.