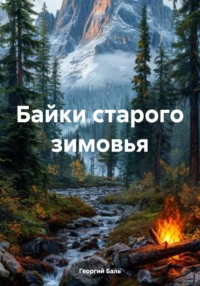Полная версия
У страха рога велики

Георгий Баль
У страха рога велики
Почему такое странное название у книги? В каждом из нас живет, гнездится страх. Тот, кто ничего не боится не храбрец – дурак. Храбрый не даст страху вырасти, не даст ему сломать себя, свою жизнь. Бойтесь, что бы страх не стал больше вас.
Ч И Т А 2014
У страха рога велики.
I
Жили-были дед и бабка. Жили – не тужили. Дети разлетелись, но не забывали, помогали. Летом внуков присылали. Баловала бабка внучков, баловала. Деревенская пища не китайские разносолы из супермаркета; помидорка – ягодка, вот она на веточке краснеет, огурчик махонький c пупырышками прячется в колкой росистой ботве, хвостики молоденькой морковки в грядке, чернеет смородина, малина алеет среди зелени – ешь – не хочу, всего вдоволь. Ради молочка для внуков держала бабка козу Машку и неизвестно ради чего при козе козла Гришку. Стареют старики. Дед все сильнее прихрамывает на калеченную ногу, махнет десяток раз, другой косой, закашляется, посидит – покурит. «Эх, рудники проклятые. Не чахотка, так помёр бы давно». Сам над собой подшучивал старый. Коза не корова, но зимой и она на подножном корму не выдюжит, хоть небольшой стожок зеленного скошенного вовремя, вовремя просушенного и вовремя убранного сена он рогатой паре обеспечивал.
Стареют старики. «Что с тебя, что с козла…». Беззлобно подтрунивала бабка над дедом из-за того, что у грядок доски, да колышки их подпирающие подгнили, что выдавили зимы из земли столбы забора и его теперь подпирать надо, что сам дед шкандыбает с подпоркой под горку запыхавшись. Так, до ста лет осталось меньше, чем лет младшей внучке. А вот сосед и до пятидесяти не дотянул. Хилая пошла молодежь. Да, честно говоря, с чего им здоровыми быть; пьют, что попало, едят, что нипопадя, и вообще, живут абы как. От бестолковости жизнь у них короткая. Цель нужна, чтобы цеплялся за жизнь человек зубами. А сосед; с утра выпил – день свободен, неделя загула пролетела вольной птицей, красуясь, загулявший вольный месяц по небу прогулялся, погрозил звездам рогами и – исчез месяц, быстро мчатся похмельные разгульные годы скороходы и быстро кончаются.
– Здоровый ты мужик Дмитро. – Говаривал старый соседу.
На что красномордый, с брюшком нависающим над китайскими спортивными штанами от «Адидаса», гордо запинаясь, отвечал.
– А чо? Что есть, то есть. Отродясь у докторов не был.
– Да не про то, не про медицину я. Вот нет у меня такого здоровья, каждый день пить. Если, дорвусь, хоть на трудовую, хоть на дармовую – напьюсь в усмерть. А завтра мне её никакой не надо. Силком заставляй – не буду. Не лезет. Здоровья не хватает.
– Ни хрена ты в жизни, сосед, не понимаешь. В пьянке – самое страшное перерывы. Пока пьешь, старый, ничего не болит. Трезвому же – мука. Голова трещит, в подреберье колет, сердце бухает – желудок переворачивается, во рту горечь от трезвой жизни. Похмелился, еще чуток сверху и все хокей. Клин клином вышибают. Дай полтинник. У жмот.
Видно не хватило полтинника, а может наоборот лишку нашел. Хватило его на днях в солнечные жары, что-то там, в сосудах в голове переклинило. Два дня пролежал пластом уставясь пустым взглядом в потолок, а на третьи сложили ему руки на груди, закрыли его карие очи.
Вечерело. Бабка накрутилась, готовя с соседками для поминок, дед принял на грудь (грех большой не помянуть соседа). Машка пинала рогами калитку и требовательно мекала во все козье горло. Её беспокоило, мучило переполненное, отвисшее вымя, соски которого чуть ли не купались в уличной пыли. Не объяснишь скотине, что не до нее сегодня. Костеря свою жизнь бабка доила козу. Ругая депутатов – демократов, чиновников – казнокрадов, дед углубился в телевизионный «Обзор за неделю». Сосед в избе через улицу лежал на столе, безразличный ко всему.
– Старый, а Гришка то нет.
С малым ведерком молока вошла в избу бабка.
– Лежишь. Телевизор смотришь. А с него, может быть, шкуру дерут. На шашлык пускают.
– Отстань, старая. Гришка, Гришка. В первой, что ли. Я бы еще Мурзика не пас. Набегается, придет. Тута вон, как бы жиды новую мировую не развязали. На корабль мира напали, людей захватили, в тюрьме держат, а арабы в секторе Газа, как в концлагере.
–Я тебе сейчас здесь устрою войну. Давай газуй, иди ищи козла.
Вроде бы бесполезная вещь в хозяйстве козел и не старому деду искать его по задворкам в наступающих сумерках, но любила бабка порядок во всем и ценила его превыше всего. Все должно быть на своем месте. Дожидаться бури дед не стал. Натянул на босу ногу кроссовки и, напевая под нос, стал завязывать шнурки.
–Жил был у бабушки серенький козлик, – и уже в дверях
– Бабушка козлика очень любила. Жрать не давала, а только доила.
Дверь хлопнула, но из-за нее доносился хриплый тенорок.
– Вот как, вот как, старый козел.
Припевка была бабке давно знакома и она спокойно стала процеживать молоко в чистый глиняный кувшинчик.
Вечерние, вылинявшие до тусклой желтизны лучи солнца витражами красили окна изб, перечеркнутые длинными синими, все густеющими тенями деревьев, купались посреди улицы, которая была похожа на тихую речку, с зеленными берегами вдоль заборов. Дед, любитель поговорить с умным человеком, разговаривал сам с собой вслух. Ругал еврейских сионистов, ругал гулену козла, который был ничем не лучше евреев. Такой же хитрый и такой же злопамятный. Застигнутый в чужом огороде, и получив свое по спине и ребрам, тем, что попадет хозяевам под руку, брел домой, обижено мекая, о геноциде на козлиное племя. Спустя какое-то время, подкараулив, подкравшись сзади, приласкав обидчика рогами пониже спины, проскакав галопом по хребтине, летел по деревенской улице и оглашено орал о торжестве справедливости, радостно тряся бородой и угрожающе рогами.
Как в старину меняла Гольдман пробовал золотой гульден на зуб, так и Гришка оценивал всю добычу на вкус. В отличие от евреев он не делил пищу на нечистую и кошерную. Был всеяден. Хищником, конечно, не был, но жевал с утра до вечера все, до чего мог дотянуться, к чему протиснуться или пролезть. Особенно обожал окурки, любил желтую прессу и вообще всю печатную продукцию, за неимением оной переходил на продукцию легкой промышленности, вплоть до промасленной ветоши. Хозяйки давно научились сушить белье за колючей проволокой. К пьяным испытывал вполне объяснимую любовь. Утащить у пьяного пачку сигарет, сжевать полу пиджака вместе с документами, собрать у зазевавшихся всю закуску и успеть убежать под рев «ликующих трибун» – экстрим, от которого козлиная кровь вскипала, молнии проскакивали между рогами. Мужики давно грозились его пристрелить, и козлиная смерть уже однажды чуть не добралась до его лохматой шкуры.
Городские туристо – рыболово – охотники, короче, три в одном, втроем уместились в двухместной палатке, поставленной на краю березового колка у самой Шилки. У одного было подводное ружье, это-то в мае, когда просидеть в воде, можно было максимум минут пять, выжить десять. Второй был вооружен мелкашкой. Третий, самый серьезный, имел помповое ружье и липовую путевку на чихающих уток, охота на которых в виду свирепствовавшего птичьего гриппа, была повсеместно запрещена. На троих была одна удочка. Но зато какая? На аккумуляторах. Кнопочку нажал и…. Этим бы рыбакам один конец этой удочки в зубы, другой в … и кнопочку нажать. Умудрились горе рыбаки на рыбалке замочить ножки до самых гланд. Развесили мокрые штанишки по березкам, мелочь, носки – трусишки на оттяжки палатки. Для сугреву у костра приняли по пол литра, перед сном добавили еще и еще. Палатка тряслась не от храпа. Не тряслась, она ходила ходуном. Кто-то пытался её оторвать от земли и сбросить со всем содержимым в реку. Рыболов-подводник, дрожащими руками натягивая резину своего ружья, в ужасе пинал левой ногой владельца мелкашки. Тот, в свою очередь, острым локтем тыкал в объемистое чрево выпучившего глаза утятника. Большая лохматая тень на крыше палатки пыталась добраться до них, но палатка, трясясь от страха, еще выдерживала напор. От трех одновременных выстрелов у нее окончательно сорвало крышу. В образовавшую дыру радостно ворвалось предобеденное весеннее солнце и просунулась ошалелая козлиная морда, зажевавшая намотанные на оттяжку безразмерные трусы и в следующий миг солнце осталось, а козел, решительным рывком отодрав клок палатки и вырвав колышек, уже летел с добычей в сторону села. Туристы подсчитывали убытки. Палатка в клочья, дно лодки проткнуто, напрочь ископычено, закуска съедена, остатки щедро посыпаны козьим горохом. Цела только водка, и то, потому что была опущена в воду для сохранения оптимальной температуры употребления. «Везет же дуракам»; – истина устами Крамарова. Козья смерть ни картечью, ни пулькой, ни острым трезубцем не задела Гришку.
Исходив все село, заглянув во все дворы, накурившись с их хозяевами до горечи, дед материл козла во всю ивановскую. Если бабка драла с Гришки зимой шерсть, то старый готов был содрать с него семь летних, ни на что не годных шкур. Идти домой и слушать ворчание бабки? Дудки. Вечер грелся алым закатом, степь отдавала свое тепло сдобренное пряным запахом трав, тепло светились в сумерках желтые огни окон. Село затихло.
За селом, на краю все того же березового колка, только с противоположной от реки опушки деревенский погост. Среди крестов горел видный издалека костерок. Трое, два брата Небараки и их компаньон по беспечной жизни Сенька Пегий, копавших для усопшего могилу, ужинали. Пегий потому, что отродясь плохо выбритый, а может щетина на нем так росла клочьями, и ножницы в доме тупые, и руки косорукие. Только щетина была всех мастей от брюнета, до шатена, а местами с сединой, подпирая снизу к кадыку, от кадыка до затылка и по загривку на спину. Нос менял окраску за день раза три и только глаза поблескивали, позыркивали из под пегих бровей где, что и как….
–Чего ему не жилось? Тяжелого в руки не брал, дурного в голову. Живи – не хочу.
– Во, во. Не забот, ни хлопот. Ни детей, ни бабы.
– Ну, ты не скажи. Нюрка Таньке из-за него все давеча волосенки повыдергивала.
– Это не то. Одинокой бабенке всегда прислониться хочется. А он хотел?
– А он сидел. Вот про ментов говорят, стоят на охране правопорядка. Дмитро то в ВОХРе, то в ЧОПе на этой самой охране, на этой самой … всю жизнь честно просидел.
– Теперь шипишку будет охранять не тяжкий труд. Належится, отдохнет.
– Все там будем.
– Ну, не чокаясь.
Захрустели малосольными огурцами. Есть свое очарование в ночной выпивке у костра. Когда водка наливается на слух, закуска кусками, ломтями, а пламя, таинственно создавая уют, освещает только круг сидящих. Не страшно ли ночью на кладбище? А кого бояться? Под этим крестом покоится дед Кузьма, в той могилке бабка Марфа, вокруг все свои лежат. Кого бояться? На Радуницу с утра пашут, в обед пьют, вечером пляшут. Мертвые не завидуют и не обидятся, если живым сродникам хорошо.
–А изба кому? Да и в избе добра немало.
Озадаченно спросил седой, одетый в допотопную телогрейку, сидящий на разливе Сенька. Вопрос видно давно его мучил, но задать все не было повода.
– Найдутся наследники. Кому то же платил алименты. Да и наши бабенки живого поделить не могли, а добро мертвого поделят, у нас не спросят. А Дмитрию все равно теперь. За упокой его души.
Буль, буль, буль. По три буля на кружку и пустая бутылка присоединилась к своим сестрам. Михаил Небарака вытащил из костра недогоревшее полешко, прикурил, прищурив от едкого дыма глаз.
–А ты заметил? Лежит в гробу как....Ну…, как…? Нет, лучше, чем живой. Похорошел. Выбрит, в белой рубашке, в галстуке. Хоть сейчас под венец.
– Так три дня не пьет. Ты не пей и ты похорошеешь.
– Ну, сказанул.
– Отпил он своё и жена у него сейчас одна – Безносая.
Ночь свое брала. От реки потянуло холодом. Между березовыми стволами сливаясь с их белизной крался туман. Становился гуще, тяжелее. Старый, огибая оградки могил, путаясь в густой траве, кустах черемухи, уже подходил к костру, когда земля ушла из под ног и он рухнул в яму на что-то мягкое, лохматое. Оно рванулось из под него вверх, проскребло отвесную стену и с комьями земли свалилось обратно на деда. Что-то острое прошлось по его ребрам, над ухом мекнуло и козел, узнав хозяина, прошелся шершавым языком по его щеке, уху, шее.
– У, черт рогатый.
Узнал и хозяин безмозглую скотину, попавшую в готовую яму для могилы. Как не пытался старый, но дотянуться до края не мог. Вверху сквозь полосы тумана подсвечиваемые неверными, играющими сполохами костра просвечивали звезды. Со дна ямы тянуло сырым земельным холодом.
– Помогите. Люди. Люди. Помогите. Люди.
Заблажил дед. Ведь до костра то осталось всего ничего, какой -то пяток, другой метров.
–Люди.
Когда дед с шумом свалился в яму, ужинавшие решили, что обвалилась стенка или осыпалась земля с края могилы. Такое бывает. Окончательно подчищать и убирать могилу всегда приходилось незадолго до похорон. Мертвые уходят в землю, но земля живая и будет жива, если только мы сами не убьем её. Земля дышит, истекает черной нефтяной кровью, а когда ей делают очень больно, она вздрогнет, зашевелится, пытаясь стряхнуть обидчиков, как лошадь надоедливых насекомых.
– Люди.
– Во.
Один из братьев Небараков по кличке Паленный едва не выронил стакан.
– Помогите.
Теперь все трое повернулись в сторону могилы, откуда доносились крики о помощи. Выпитое придавало им смелости. Да и кого бояться? Они не первую могилу вырыли, и не один литр выпили под кладбищенскими черемухами.
Свет костра падал им со спины, но в яме царила темнота.
– Ты кто?
Запинаясь вовсе не от страха, спросил Белый.
– Сенька, да это я, дед Федор. Сосед твой.
– Гы. Гы-гы. – Утробно гоготнул Семен. – Ты, как туда?
– Как, как. Кверху каком. Помогите выбраться.
– Жди. Щас. Веревку найдем.
Веревка лежала у костра рядом с лопатами. Но пламя так заманчиво играло на стекле бутылки, что мужики снова присели на свои, заранее облюбованные места.
– Чо, деда вытащим, али как? Во хохма будет, Дмитро принесут, а место занято.
– Люди.
– Во, неугомонный. Придется вытащить, а то из деревни кто прибежит. Вон собаки то гвалт подняли.
Самый младший из Небарак и не очень-то верил в то, что говорил, ему просто было жалко деда.
–Давайте вытащим. Бог с ним, а то действительно душу богу отдаст, грех на нас ляжет.
Ну, ладно, еще по одной и вытащим.
Не закусывая, Белый взял веревку и подошел к краю могилы.
– Лови, старый, привязывайся. Можешь за шею, выдернем.
Веревка скользнула в яму. Дед поймал конец и, понимая, что за козлом все равно придется лезть, решил, освободить из плена сначала товарища по несчастью, а потом уже выбраться самому. Наматывает веревку козлу на рога и приговаривает; «Терпи казак, а то мамой будешь», не рад козел, башкой мотает, а куда денешься, не на подводной лодке. Завязав задвижной шток, дед крикнул;
– Тащите.
Сам стал подталкивать козла сзади.
– Терпи, терпи козел….
– Эх, ухнем. – Не столько упираясь, сколько командовал Семен, любитель не поработать, а покряхтеть. Веревка скользила между его ладоней. Братцы старались на славу.
Белый наклонился к могиле, что бы подхватить деда. Но в багровых отсветах костра на него наползала черная рогатая морда с выпученными глазами.
– Ме – е – е.
Выразил свое неудовольствие происходящим козел
– А – а.
В ответ коротко вскрикнул Сенька Пегий. Всхлипнул, пытаясь вдохнуть воздух, но попытка отозвалась острым шилом в груди. Тяжело осел, не удержался на краю и навзничь свалился в могилу. Братья увидели как чудище из могилы, утянув Семена, скребло острыми лапами-копытами по рыхлой земле на краю могилы, добираясь до них. Бросив веревку, сшибая оградки, набивая шишки и синяки, бежали они через кладбище. Светились окна, горел фонарь у единственного магазина, который работал круглосуточно, в клубе стадом козлов орала дискотека. Изодранной одеждой, исцарапанными мордами, Небараки насмерть перепугали продавщицу, глянувшую на них сквозь маленькое окошко в двери.
– Т-т-там.
Гуля показывал оттопыренным большим пальцем сжатой в кулак руки себе за спину, за которой стоял больше похожий на варнака, чем на деревенского забулдыгу старший брат Паленный. Окошечко захлопнулось. Любопытство погубило кошку и Танька, чуть приоткрыв его, сквозь щелку всматривалась в сумрак коридорчика.
– Т-т-там.
Продолжал заикаться Гуля, не зная как сказать, что там и где это там. Выручили подростки, подошедшие за пивом. Какая дискотека без пива, или без «Штопора», «Отвертки», «Вертолета»? Чем они отпаивали Гулю с Паленным не суть важно. Но какая может быть дискотека после ужастика рассказанного братьями? Вооружившись, чем попало, от осинового кола до дедовской двустволки орущей, они визжащая, хохочущая гремящая пивными банками, толпа отправилась на кладбище.
В лучах мощных фонарей дед рядом с козлом казался маленьким, оба щурились от яркого света. К губе козла прилип бычок-окурок, казалось, что он не щурится, а озорно подмигивает банде подростков веселившейся на краю могилы. В позе зародыша, зарывшись в угол ямы по самые уши, от этого и того мира спрятался Сенька.
Все это было б так смешно, когда бы не было так грустно. Помянали Дмитрия три дня всем селом, кроме деда. Поминали как положено; с бабьим плачем, потом песнями и закончили дракой. Дед поминать зарекся на всю оставшуюся жизнь. И на кладбище – ни ногой. Зарекайся, не зарекайся, но старик с козлом надолго стали достопримечательностью села. Так сказать, былинными героями. Семена только старые друзья по забывчивости назовут порой Пегим, ведь после этой ночи стал он Белым, что вполне соответствовало его фамилии Белецкий, той седине, которая покрыла его от макушки до пяток. После бани, как князь Серебряный, покрытый инеем выходит Белый на мороз, только шкура на лысине розовато просвечивает, но это мелочи, по сию пору Сеня заикается, и на кладбище тоже боле по своей воле ни ногой. А история же со временем обрастала все новыми подробностями. Брешут люди. Все было так, как я рассказал, и если ее расскажут по-другому, то знайте, врут. Беззастенчиво брешут.
II
Стареют старики. Молодость проходит. За сорок лет мужику, а он все Гуля. С легкой руки племянницы, которая по младенчеству путала «р» и «л». Пора бы и Гурьяном Никифоровичем величаться, Митьке Гурьяновичу уже срок в армию подошел, а Гуля все молодится.
Изба на околице, окнами на реку, дугой огибающей село. Под окнами черемуха. Под черемухой лавочки. Одну поставил сам, две подростки. На одной целовался-миловался когда-то с бывшей женой, на другой пол села. Миловались, женились-разводились, рожали детей – жили. А скамеечки не пустовали. Посидит Гуля с молодежью вечерком на лавочке, покурит сигарет дармовых, на гармошке им сыграет и уйдет в пустую избу. От других домов гоняли хозяева, а здесь хоть до утра. А если дождь? Или что другое приспичит, то калитку, сени, дровяник Гуля никогда не закрывал. Одним словом – Небарака. Подростки любили Гулю, а когда становились взрослыми, начинали смотреть на него свысока. Жил он на небольшую зарплату в леспромхозе, огородом, охотой и рыбалкой. Богатства не накопил. Лишнюю (а она бывает лишняя?) копейку сыну за обучение в колледже отдавал, мясом-рыбой с женой бывшей делился, с соседями. Зла ни на кого не держал. Шел по жизни с улыбкой. Вот за эту улыбку и считали его все несерьезным. Балагуром. Баламутом. Он балагурил. Любил хорошую песню, а байки рассказывал – заслушаешься. Баламутил, но не мутил. Любил пошутить не зло, но все село от его шуток вздрагивало.
Стареют старики. Деду сто. Внучка замуж собралась. Козла давно уже нет на этом свете, и Машка уже другая. Та была белоснежная, а эта чернявая, с бурыми подпалинами. Да, Бог с ней, с козой. Вернемся к внучке. «Студентка, спортсменка, не комсомолка – просто красавица!». Экономику развитого капитализма сдала (как в наши годы сопромат) – можно замуж.
Свадьба. Посчитали – прослезились. Родни? А деду сто. А дом строился на семью русскую, сибирскую, когда и без Путина бабы рожали – ставни закрывай, они на свет лезут. А в третьих – оригинально. Ресторан – кабак! Толи дело на природе, на свежем воздухе, под золотом осенних берез. Закуска? Да наша строганина в сто раз лучше японского суши. Мяса по осени в деревне за копейки можно взять у тех же соседей, еще и спасибо скажут. Овощей (без нитратов!) завались. Прочее можно и с собой привезти. Автобус нанять дешевле, чем кабак снять.
Свадьба!!
Не буду описывать, я на ней не был, также как и Гуля. Не пригласили его. Деда при одном имени Небарак встряхивать начинало. Давно это было, но история с козлом на кладбище не забывалась. Каждый раз её рассказывали по-новому. То дед специально козла на кладбище привел и в могилу столкнул, то наоборот козел деда гонял и тот с переляку в могилу спрятался. Дед же во всем винил Небарак, костер на кладбище разложивших с выпивкой и закуской, сбивших с пути истинного деда праведника. Не пригласили и соседку. История давняя, свидетелей не осталось. Вдовая соседка по послевоенному безмужичью обратилась за помощью к соседу. Какой настоящий мужчина откажется от работы на благо процветания и укрепления нашей Родины. Трудился дед, а тогда не дед – мужик в самом соку, на совесть, не жалея сил, да жена по молодости лет ревнивая, сама жадная до мужниных ласк, помешала производственному процессу. Было. Было, а как жить, когда на всю округу на десять баб полтора мужика, если собрать в одну кучу все их члены; руки, ноги, головы. Бабка давно простила деда, а соседке не могла позабыть истоптанный огород, по которому её гоняла. Все жалела вытоптанные капусту, огурцы, помидорные кусты вырванные с корнем.
Гуляет свадьба.
Набежала тучка. Моросит мелкий, не по-осеннему теплый дождик. Что б не было слишком жарко, в избе настежь окна, двери. Шумно гуляет свадьба. Выплеснется во двор, но женщины жалеют прически, мужчины пиджаки от Вирсачи, снова под крышу.
–Горько! – Горько! – Скандируют одни гости.
–Раз, два, ….., пять,…., двадцать пять…! – Считают другие.
Гуляет свадьба.
Напротив, на похилившемся крылечке вдовьего дома сидит, покуривая Гуля. С утра баба Дуся попросила заколоть кабанчика, завтра уйдет свадьбе на шашлыки, бабе Дусе какая ни какая, но копейка. Мало ли дыр в хозяйстве, а на все гроши требуются. Дело мастера боится и вот уже разделанный кабанчик кусками весит на вешалах, обтекает, обсыхает. Перед Гулей в тарелке жареха, початая бутылка водки. А музыка и здесь хороша слышна. Да и зачем громкая музыка, когда душа поет? По железу над головой дробно стучит дождик, а за рекой в вечерних лучах солнца исходят паром багряные сопки. Напревают последние грибы. Гуляет на соседнем дворе свадьба. В тайге, за рекой, мир, покой и благодать.
У Гули жареха, а на свадьбе от закуски столы ломятся. Отвык старый от обильной пищи, обильных возлияний. Замутило в голове, закрутило в желудке. Вышел дед на холодок и чувствует, не донесет. – Куда? – Оглянулся, гуляет свадьба. Куда – куда. За избу, да под забор. А какие между соседями заборы? Два столба, три слеги, да куст смородины, под который и пристроился дед. Гуля покуривает, дед покряхтывает. Как козла на марюшке скрадывал его Гуля. Подложил деду свинью, вернее мелкие свиные кишочки, что не пошли у бабы Дуси в дело. И снова на крылечко, покуривает.
Полегчало. Встал дед, оглянулся и внутри все оборвалось. Вот они родимые на земле лежат кучкой, кровиночки родимые, теплые еще, живые, кажется, шевелятся. А в груди, под сердцем, на сердце, на душе такая пустота, словно кто-то кровный помер. А свадьба гуляет. Сгреб дед, не застегивая, штаны в горсть, да на полусогнутых в горницу. Одной рукой штаны придерживает другой живот.
– Ой, помираю.
Гости гурьбой за избу. Бабка приковыляла. Вот они. Оторвались у деда кишки. Закуску со стола, деда на стол. Одно остается – отпевать. Не жилец без кишок. Фельдшерица прилетела, девчушка – в этом году училище закончила. Была раньше больничка, пусть маленькая, но своя и врач был, а ныне здравпункт и фельдшерица пигалица. Что-то слышала про выпадение кишок, но даже на картинке в учебнике не видала. Здесь за избой в первый раз. Прутиком перевернула. Вот они. Капли крови еще не свернулись, не застыли. И деда жалко. А в здравпункте, как в автомобильной аптечке. Чего только нет, и того нет и того нет, а что есть, так то как мертвому таблетки от кашля.
Бабка запричитала, дочки подхватили. Еще жив, а рев как по покойнику. Маруся –фельдшерица из избы, бегом к поссовету где единственный телефон на все село. Может из района скорая успеет или по реке на катере? Успел Гуля, перехватил.
– Ты, доча, не суетись. Стой тебе говорят. – Прикрикнул, когда она, вместо «Здрасте», кивнув на бегу попыталась его обогнуть.