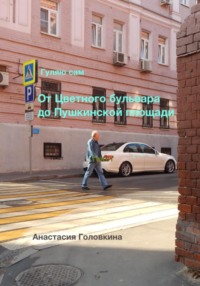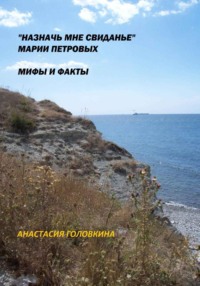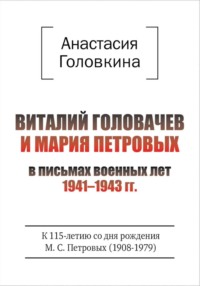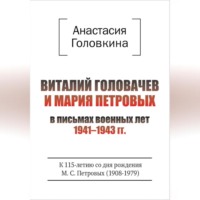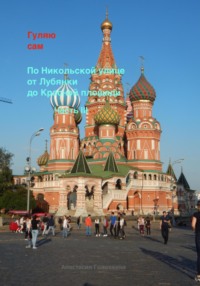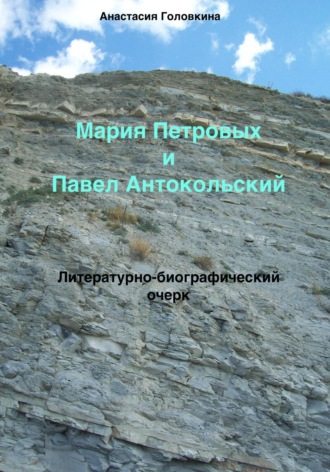
Полная версия
Мария Петровых и Павел Антокольский. Литературно-биографический очерк

Анастасия Головкина
Мария Петровых и Павел Антокольский. Литературно-биографический очерк
ОБ АВТОРЕ
Анастасия Ивановна Головкина – писатель, документалист, поэт-песенник, внучка Марии Петровых, исследователь и популяризатор ее творчества: лауреат литературных премий, имеет награды, член Российского союза писателей.
МАРИЯ ПЕТРОВЫХ И ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ
Литературно-биографический очерк
Предыстория
Событием на грани мистики стало появление в жизни Марии Петровых Павла Антокольского, созвучного ей поэта и коллеги по переводческому цеху, с которым она долгое время входила в состав Бюро Секции переводчиков национальных литератур.
Познакомились они в Баку ранней осенью 1947 года на торжествах по случаю 800-летия азербайджанского классика Низами Гянджеви; Антокольский приехал туда с докладом на тему «Низами и советская культура» [36:287 – 296]. Даже удивительно, что их личная встреча состоялась так поздно. Ведь они принадлежали к одному литературному кругу. Как и Мария Сергеевна, Павел Григорьевич неплохо знал Пастернака и с юных лет был дружен с Верой Клавдиевной Звягинцевой. В сферу переводов Петровых с Антокольским тоже пришли примерно в одно время. И, тем не менее, до сентября 1947 года в документах личного архива М. Петровых никаких следов ее общения с П. Антокольским мы не находим.
Будучи утаенной сердечной привязанностью Марии Сергеевны, Павел Григорьевич в ее заметках и письмах нередко фигурирует в зашифрованном виде; почти неизученным до сих пор оставалось литературное влияние П. Антокольского на творчество М. Петровых. К моменту знакомства с Марией Сергеевной Павел Григорьевич был много лет женат вторым браком на актрисе Зое Константиновне Бажановой. Но, как показывает наше исследование, именно Антокольскому было суждено вернуть Марию Сергеевну к жизни и вдохновить.
Однако обо всем по порядку.
Попробуем вернуться в начало 1940-х и узнать, какие события в жизни Марии Петровых предшествовали ее встрече с Павлом Антокольским.
Осенью 1943 года от предложенных Фадеевым двух комнат в Переделкине Мария Сергеевна отказалась, опасаясь, что в писательском поселке ей трудно будет ограничить человеческое общение, к которому она в ту пору была совершенно не расположена.
Поселившись вдвоем с дочерью в комнатенке коммунальной квартиры в Гранатном переулке, Мария Сергеевна полностью отдалась работе. А из ее переписки со старшей сестрой мы уже знаем, как трудно было ей сосредоточиться в условиях густонаселенной коммуналки. В этот период у Марии Сергеевны происходит полное эмоциональное выгорание с утратой способности плакать. Внутреннее напряжение доходит у нее до такой степени, что она не может расслабиться, не может отдохнуть, даже когда для этого создаются все условия.
Положение Фаины Александровны немногим легче: после пожара на 5-м Лучевом просеке у нее нет своего угла. Она живет то у сына Владимира на Лесной, то у племянницы Таты в Сокольниках, то у Маруси на Гранатном.
Человеком Фаина Александровна была тяжелым: скрытным, замкнутым, обидчивым, подозрительным. Ужиться с ней было дано не каждому. Но всех детей своих она горячо любила и старалась помочь. А судьба Маруси после трагедии 1942 года тревожила ее непрестанно. Из писем Фаины Александровны к Кате мы узнаем, как протекали будни Марии Сергеевны в первые годы после возвращения из Чистополя в Москву.
Октябрь 1944 г.:
«Маруся жила в Переделкине с первых чисел сентября до 28-го/X, но, на мой взгляд, нисколько не поправилась: ни нервы не стали лучше, если не хуже, и не пополнела. Скоро едет в Армению, как я Тебе писала, – ведь она теперь переводит с армянского языка, и ей прислали оттуда вызов. Умоляю ее лечиться, но почти уверена, что не будет: говорит, я еду туда работать, а не лечиться» [23].
Август 1945 г.:
«… Она больна. Как это тяжело! У нее плохо с сердцем… Была у Егорова, взял за визит 200 р., а осмотрел, как говорит Маруся, очень поверхностно. Так душа болит о ней: уж очень трудна жизнь ее, а здоровье плохое и сил мало» [23].
Октябрь 1945 г.:
«Очень Маруся плохо все себя чувствует, часто болит лоб и вообще недомогание какое-то. Как ее жаль мне и помочь ничем не могу. Хоть какой-либо светлый луч в ее судьбе!» [23]
Сентябрь 1946 г.:
«Сейчас я приехала от Маруси; ездила за карточкой хлебной. Приходится ей из-за меня беспокоиться; она и так загружена всякой работой и хлопотами. 31-го VIII они приехали из Переделкина, где Маруся пробыла август м-ц; но ее работа постоянно требовала бывать в Москве и подолгу. Так что, ничего она не отдохнула.
<…>
Трудно всем живется. У Маруси нет одеяла. Купить нет никакой возможности; спит под пальто» [23].
Еще через полгода в кругу Марии Сергеевны о ней заговорили, как о человеке, которому недолго уже осталось. В апреле 1947 года Екатерина Сергеевна, всполошенная новостями о сестре, которыми поделилась с ней переводчица Разия Фаизова, спешно строчит в Москву:
«Марусенька, любимая моя! Только вчера твоя знакомая передала мне твое письмо, а сегодня она уже уезжает или уже уехала.
<…>
Сказала она только, что ты очень похудела и продолжаешь худеть и сейчас, но к врачу не идешь. Марусенька, такое отношение к себе, имея ребенка, – преступление. Ты вот заботишься о маме, посылаешь ее к врачам, хотела вызвать врача домой, это все очень хорошо с твоей стороны, но почему же в отношении себя ты так небрежна, так непростительно невнимательна? Кроме очень большого зла себе, а в первую очередь Арине, ты ничего не достигнешь. Надо следить за здоровьем, надо, надо, надо! Это, конечно, трудно и неприятно, но еще больше – это необходимо.
<…>
Большое спасибо тебе за карточки, хотя твоя фотография является печальным подтверждением того, что рассказывала Фаизова» [21].
Отдельные слова Кати можно истолковать так, будто она усматривает в поведении сестры целенаправленное самоумерщвление. Но ее предположения вряд ли можно считать обоснованными. В силу обостренного чувства ответственности Маруся никогда бы не лишила своей заботы несмышленого ребенка и пожилую мать. А к врачам она неохотно обращается просто потому, что в глубине души чувствует бессилие медицины перед своим недугом …
В Баку
Ранняя осень 1947 года не предвещала никаких перемен в жизни Марии Петровых. Все тем же удрученным тоном в начале сентября Фаина Александровна пишет Кате:
«Маруся, по-моему, ничего не поправилась за 15 дней, которые она провела в доме творчества. Не правда ли, и невозможно за такой короткий срок поправиться?!
<…>
Маруся получила приглашение в Баку на какое-то торжество, когда я у нее была за получением пенсии. При мне она не решила, ехать или нет, главное – не из-за Ириночки, а, по-моему, из-за своего здоровья. Она худа и бледна и все курит и курит» [24].
На юбилей великого классика, который предполагалось отмечать в последнюю неделю сентября, организаторы прислали Марии Сергеевне официальное именное приглашение. Отказаться неудобно. Утешая себя тем, что мероприятие продлится всего неделю, Мария Сергеевна решила все-таки ехать. И вдруг случилось невероятное! Из Баку она вернулась совсем другой: помолодевшей, посвежевшей, похорошевшей. Даже маленькая Ариша сразу заметила чудесное преображение матери.
«Дорогие Катя и Ксана! – пишет она тетушке и двоюродной сестре в Алма-Ату. – Извините меня за то, что опоздала с поздравлением. Я закрутилась с делами. Месяц назад мама ездила в Баку. Там ей очень хорошо было жить. Питание хорошее, часто бывали всякие вечера. Один раз мама была на вечере в 171 бакинской школе. Там состоялся вечер, посвященный Низами. Там мама прочитала свое стихотворение и перевод. Кроме мамы там выступали двое мужчин. После выступления мужчинам подарили по подстаканнику, а маме хрустальную маленькую вазочку.
За время отъезда мама поправилась, а как приехала, опять снова-здорово, закрутилась-замоталась и похудела, осталась, как была» [24].
Бакинский флер с Марии Сергеевны быстро спал, но момент внезапного просветления был очевиден. И у проницательной Кати почти не оставалось сомнений, что жизнь сестры затронули некие «внешние влияния».
«Ты так мало в своих редких письмах пишешь о себе, – осторожно подбирается она к сестре с вопросом в декабре 1947 года. – Я просто ничего не знаю, но каким-то верхним чутьем я чувствую, что у тебя что-то в жизни необычайное. Правда это?» [28]
«В жизни моей и впрямь творится необычайное, – отвечает через некоторое время Маруся, – я счастлива и несчастна, как никогда. Ты не волнуйся за меня, лучше – радуйся! В жизни моей бывают дни прекрасные» [28].
Довольно отчетливо присутствие Павла Антокольского рядом с Марией Петровых в те незабываемые сентябрьские дни ощущается через его литературное вторжение в ее лирический мир, запечатленное в ее дневнике, который для удобства дальнейшего разговора предлагаем называть «Бакинским» [ФМП. Оп. 53. Д. 23]. Записи в дневнике говорят о том, что в этой поездке Мария Сергеевна впервые после длительного перерыва вернулась к оригинальному творчеству. В ряде набросков проглядывают мотивы стихотворения «Назначь мне свиданье на этом свете…», ранняя редакция которого выйдет из-под пера Марии Петровых шестью годами позже.
Выпьем за город Баку!
Это город удачи.
Средоточье богатства, труда и удачи.
Черный город вечером светел душою.
Прикаспийская степь разноцветная…
Семицветные волны Каспийского моря.
Это нефть семицветная, свет и тепло.
Я люблю этот город… [27:5].
Мотивно-образные ряды, которые Мария Сергеевна прорабатывает в этих набросках, созвучны стихотворению Павла Антокольского «Баку» (1938):
Город по ночам лежал подковой,
Весь в огнях – зеленых, желтых, красных.
И всю ночь от зрелища такого
Оба мы не отрывали глаз.
Нам в лицо дышала нефть и горечь
Крупного весеннего прибоя.
Праздничное голошенье сборищ
Проходило токами сквозь нас.
Мне затем подарен этот город,
Чтобы я любил свою работу,
Чтобы шире распахнул свой ворот
И дышал до смерти горячо.
Писано в Баку, восьмого мая,
В час, когда в гостинице всё тихо
И подкова города немая
Розовым подернута еще.
Судя по всему, именно через поэзию Антокольского Мария Сергеевна начала воспринимать Баку как «Город Огней» и прочувствовала связь между нефтедобычей и разноцветными переливами волн Каспийского моря.
Назначь мне свиданье в том городе южном,
Где ветры гоняли по взгорьям окружным,
Где море пленяло волной семицветной,
Где сердце не знало любви безответной.
Напомним, что более двух лет Мария Петровых не писала стихов. Она активно занималась переводами, но оригинальных произведений не было даже в набросках. Поэтому закономерным представляется, что возвращение к собственному творчеству началось у нее с заимствований. Как и восстановление душевных сил, лирический мир ее пришел в движение под воздействием мощного толчка извне.
Антокольский умел увлечь собеседника тем, чем сам был глубоко увлечен. Осенью 1947-го он приехал в Баку не первый раз. Он был влюблен в этот город и знал все самые притягательные его достопримечательности.
«Для того, чтобы хоть что-нибудь понять в гениальном творчестве Низами, – вдохновенно восклицает Павел Григорьевич с трибуны Второго всесоюзного съезда писателей, – надо хотя бы раз в жизни полюбоваться на его ровесницу, на горную красавицу, озеро Гёйгёль, в окрестностях его родного города Гянджи, ранее Кировобада; надо хотя бы раз в жизни ощутить атмосферу азербайджанского базара с его лудильщиками-паяльщиками, с запахами вина, кожи, бараньих шкур, москатели, надо хотя бы раз в жизни вдохнуть прохладу голубых мечетей и развалин в старом Баку, надо услышать гортанный распев ашуга под шмелиное зудение старческой зурны» [8:14].
Схематично прогулки по городу запечатлены и в «Бакинском дневнике» Марии Петровых. Причем наиболее активно она осматривает город 28 и 29 сентября, уже после всех официальных мероприятий, наедине со своим спутником. Скорее всего, эту запись Мария Сергеевна сделала уже по возвращении в Москву, пораженная тем, насколько стремительно развивались новые романтические отношения.
«22-го – открытие заседания в 7 часов вечера.
Мы увидели друг друга.
24-го вечером – выезд в Кировобад.
Встреча в вагоне.
25-го – мавзолей Низами – днем. Вечером – открытие сессии в Академии наук.
26-го – поездка в горы. Крутая дорога. Барашек, кизил. Вечером – отъезд в Баку.
Григорян на вокзале.
27-го вечером – торжественное собрание. Закрытие. Концерт. Ложа.
«Завтра утром Вам позвоню. Вы не сердитесь на меня?» – «Конечно, нет, что вы? Наоборот».
28-го утром звонок. Встреча около гостиницы. Вверх.
29-го утром звонок. Встреча около гостиницы. Через жаркий город вверх – в другую сторону. Мечеть. Сквер. Больница. Сквер. Ашуги.
30-го утро – у меня дома» [27:2].
То есть «в переулке Гранатном».
И снова мы узнаем мотивы будущего «шедевра любовной лирики». Однако читатель, привыкший связывать замысел «Назначь мне свиданье…» с образом Александра Фадеева, может нам возразить: имени своего спутника Мария Сергеевна в дневнике не называет, а Фадеев тоже присутствовал на мероприятиях!
Все верно. На мероприятиях Фадеев присутствовал. Но сразу же после чествования Низами он уехал на охоту в предгорья Большого Кавказа. Воспоминания об этом приключении оставил Николай Тихонов:
«Туманным сентябрьским утром 1947 года небольшая компания на двух машинах покинула Баку и направилась в дальний путь. Всего нас было восемь человек: Александр Александрович Фадеев, Самед Вургун, я, один почтенный пограничник, человек серьезный и понимающий в охотничьих делах, затем ученый муж, специалист по лесному хозяйству, и настоящий егерь, знаток звериного и птичьего мира, два водителя, хорошо знавшие все дороги Закавказья.
<…>
Только что кончилось празднование великого Низами, и в памяти еще жили самые живописные картины юбилейных торжеств» [68:421 – 422].
Обратим внимание на даты. По сообщению Тихонова, Фадеев с группой товарищей покинул Баку сразу после юбилейных мероприятий и при этом «туманным сентябрьским утром». Торжества по поводу Низами закончились 27 сентября. Сентябрьских утр осталось совсем немного: 28-го, 29-го и 30-го. А из дневника Марии Сергеевны следует, что 28-го и 29-го она со своим спутником бродила по горам в окрестностях Баку, а уже 30-го они вместе вернулись в Москву и прямиком проехали на Гранатный.
Из воспоминаний современников
Наиболее ранние наблюдения мемуаристов, подтверждающие знакомство Марии Петровых с Павлом Антокольским, также относятся ко второй половине 1940-х годов.
«Война завершилась, – вспоминает Яков Хелемский. – Я демобилизовался, хотя и не сразу. Все начиналось заново. Постепенно входя в московскую литературную жизнь, я сперва потянулся к своим довоенным друзьям и давним наставникам. Потом привычный круг стал расширяться. Зазвучали имена молодых, пришедших с фронта.
<…>
Знакомили нас дважды (с Петровых. – А.Г.). Первая встреча случилась в писательском клубе, где Антокольский, окруженный друзьями, возглавлял стихийно возникшее застолье. Заметив меня, он издал боевой клич: «К нам, к нам!», подкрепляя приглашение бурными жестами. За ресторанным столиком, где нашлось место и для меня, оказалась Петровых» [59:226].
Разговор не сложился. Слишком шумно было и многолюдно. Но вскоре Яков Александрович вновь встретил Марию Сергеевну в гостях у Веры Клавдиевны Звягинцевой в Хоромном тупике. И один нюанс, возникший в ходе их беседы, напомнил Якову Александровичу о знакомстве Марии Сергеевны с Антокольским.
«… Тут она вдруг рассмеялась, весело, озорно, от всей души. Так же смеялась она в писательском клубе, когда за столом лихо актерствовал неотразимый Павел Григорьевич. Это я еще тогда приметил» [59:228].
Минуя подробности, Хелемский выделяет деталь весьма существенную: Антокольскому удавалось благоприятно воздействовать на эмоциональное состояние Марии Сергеевны. Сходное наблюдение мы находим в мемуарах Давида Самойлова:
«Я впервые увидел Марию Сергеевну через несколько лет после войны, в обстановке для нее необычной: в Литовском постпредстве нескольким переводчикам вручались грамоты Верховного Совета.
За банкетным столом напротив меня сидела хрупкая большеглазая женщина лет сорока, бледная и как будто отрешенная от всего происходящего. Впоследствии я узнал, как мучительны были для нее многословные чествования и официальные мероприятия. Она чувствовала себя здесь чужой.
Она была хороша, хотя почему-то трудно ее назвать красавицей. Во внешности ее были усталость, одухотворенность и тайна. Я попробовал с ней заговорить. Она ответила односложно.
Мы встречались иногда в Клубе писателей, раскланивались. Никогда не заговаривали друг с другом.
Однажды в Клубе Павел Григорьевич Антокольский подозвал меня к столику, где сидел с Марией Сергеевной. Она протянула мне руку, маленькую, сухую, легкую. Назвалась. Назвался и я.
Павел Григорьевич любил оживленное застолье. Еще кого-то подозвал, заказал вина.
Возник какой-то веселый разговор.
Павел Григорьевич был особенно приподнят, остроумен, вдохновен. Мария Сергеевна говорила мало, негромко, мелодичным приятным голосом. Она была другая, чем в Литовском постпредстве. В ней чувствовалась внутренняя оживленность, внимание ко всему, что говорилось, особенное удовольствие доставляли ей речи и шутки Павла Григорьевича» [65:282].
«Мне выпало общаться с Марией Сергеевной в ее уже немолодые годы, – дополняет свои мемуары Яков Хелемский. – И, представьте себе, несмотря на тогдашнюю сдержанность и сложные обстоятельства жизни, я порой наблюдал вспышки ее веселья – возникавшие внезапно. О, как она преображалась, когда за дружеским столом в ЦДЛ лихо актерствовал в роли тамады Павел Антокольский, когда произносил возвышенно-остроумные тосты кто-либо из армянских друзей. Правда, она через несколько минут могла погрустнеть и уйти в себя. Но улыбчивые отголоски давно ушедшей юности, хоть и нечасто, напоминали о давнем свойстве этой щедрой натуры» [70].
Последнее наблюдение Хелемского очень тонкое. Не зная всех обстоятельств трагического прошлого Марии Сергеевны, он почувствовал, что внутри нее как бы затаилась некая подавленная личность, которая лишь изредка давала о себе знать. И Антокольскому удавалось будить и вытягивать на свет эту подавленную личность. В его присутствии Мария Сергеевна становилась похожей на себя прежнюю, какой она была до трагедии 1942 года. В этом и состоял секрет его успеха у Марии Сергеевны.
Но это еще не весь секрет, а лишь зримая его сторона. А если мы копнем чуть глубже, то увидим многочисленные пересечения в биографиях Антокольского и Петровых, которые, вероятно, создавали у них ощущение общего прошлого и долгого совместно пройденного пути. В юности оба они пробовали свои силы в театре, где развили свою природную способность к перевоплощению.
«Культура Павла Антокольского, – вспоминает С.С. Лесневский, – явилась не только начитанностью, но и кровной памятью родства народов и гениев. Подлинный русский интеллигент, советский патриот, он был в высочайшей степени наделен «чувством как бы круговой поруки всего человечества» (А. Блок). И при этом Антокольский имел потрясающий дар искреннего перевоплощения, способность ощущать себя как бы другим человеком. Артист – вот что хочется сказать о нем прежде всего; во всем он был артист. Сюда относится и непосредственно театральное начало, коренящееся в судьбе Антокольского, в природе его поэтического мирочувствия; и виртуозность мастера, у которого все поет, к чему он ни прикоснется; и колоссальный темперамент, сотрясающий залы и сердца; и обращенность к слушателям, к народу – высокий демократизм романтического театра поэзии» [49:521].
Сходным образом характеризует дарование Марии Петровых ее школьная подруга Маргарита Салова:
«Она воспринимала все тонко, всем своим существом. Относилось ли это к литературе, либо к жизни.
И, наконец, еще ребенком она умела перевоплощаться. Передавать чувства, даже неведомые ей, причем чаще это было не подражание, а творческое предвидение.
Вот все это и сделало ее непревзойденным мастером перевода» [9:6].
Работая над стихотворным произведением, Петровых и Антокольский придирчиво следили за тем, чтобы при восприятии текста на слух не получалось нелепостей и смысловых искажений.
Забавное, но весьма характерное свидетельство обостренного поэтического слуха Антокольского мы находим в мемуарах Марка Соболя. Впервые придя к Антокольскому домой, после непродолжительной церемонии знакомства, Марк Андреевич по просьбе радушного хозяина начал читать свои стихи:
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.